Да ведь ежели коза, так и жить нетрудно. Ежели коза, то смешно даже...
Михаил Зощенко
Уильям Холман Хант "Козел отпущения", 1854
МАРИНА ЦВЕТАЕВА
ВОЛК И КОЗА
Отощав в густых лесах,
Вышел волк на снежный шлях,
И зубами волк —
Щёлк!
Ишь, сугробы намело!
За сугробами — село.
С голоду и волк — лев.
Хлев.
По всем правилам подкоп.
Вмиг лазеечку прогрёб,
К белым козам старый бес
Влез.
Так и светятся сквозь темь!
Было восемь — станет семь.
Волчий голод — козий гроб:
Сгрёб.
Мчится, мчится через шлях
Серый с белою в зубах,
Предвкушает, седоус,
Вкус.
— Молода ещё, Герр Вольф!
(Из-под морды — козья молвь.)
Одни косточки, небось!
Брось!
— Я до всяческой охоч!
— Я одна у мамы — дочь!
Почему из всех — меня?
Мя-я-я...
— Было время разбирать,
Кто там дочь, а кто там мать!
Завтра матушку сожру.
Р-р-р-у!
— Злоумышленник! Бандит!
Где же совесть? Где же стыд?
Опозорю! В суд подам!
— Ам!
Йозеф Антон Кох "Жертвоприношение козла", 1803
ВАСИЛИЙ ШУКШИН
КАК МУЖИК ПЕРЕПЛАВЛЯЛ ЧЕРЕЗ РЕКУ ВОЛКА, КОЗУ И КАПУСТУ
Собрались три бледно-зеленые больничные пижамы решать вопрос: как мужику в одной лодке переплавить через реку волка, козу и капусту? Решать стали громко; скоро перешли на личности. Один, носатый, с губами, похожими на два прокуренных крестьянских пальца, сложенных вместе, попер на лобастого, терпеливого:
— А ты думай! Думай! Он поплавит капусту, а волк здесь козу съест! Думай!.. У тя ж голова на плечах, а не холодильник.
Лобастый медленно смеется.
Этот лобастый — он какой-то загадочный. Иногда этот человек мне кажется умным, глубоко, тихо умным, самостоятельным. Я учусь у него спокойствию. Сидим, например, в курилке, курим. Молчим. Глухая ночь… Город тяжело спит. В такой час, кажется, можно понять, кому и зачем надо было, чтоб завертелась, закружилась, закричала от боли и радости эта огромная махина — Жизнь. Но только — кажется. На самом деле сидишь, тупо смотришь в паркетный пол и думаешь черт знает о чем. О том, что вот — ладили этот паркет рабочие, а о чем они тогда говорили? И вдруг в эту минуту, в эту очень точную минуту из каких-то тайных своих глубин Лобастый произносит… Спокойно, верно, обдуманно:
— А денечки идут.
Пронзительная, грустная правда. Завидую ему. Я только могу запоздало вздохнуть и поддакнуть:
— Да. Не идут, а бегут, мать их!..
Но не я первый додумался, что они так вот — неповторимо, безоглядно, спокойно — идут. Ведь надо прежде много наблюдать, думать, чтобы тремя словами — верно и вовремя сказанными — поймать за руку Время. Вот же черт!
Лобастый медленно (он как-то умеет — медленно, то есть не кому-нибудь, себе) смеется.
— Эх, да не зря бы они бежали! А?
— Да.
Только и всего.
Лобастый отломал две войны — финскую и Отечественную. И, к примеру, вся финская кампания, когда я попросил его рассказать, уложилась у него в такой… компактный, так, что ли, рассказ:
— Морозы стояли!.. Мы палатку натянули, чтоб для маскировки, а там у нас была печурка самодельная. И мы от пушек бегали туда погреться — каждому пять минут. Я пришел, пристроился сбочку, задремал. А у меня шинелька — только выдали, новенькая. Уголек отскочил, и у меня от это вот место все выгорело. Она же — сукно — шает, я не учуял. Новенькая шинель.
— Убивали же там!
— Убивали. На то война. Тебе уколы делают?
— Делают.
— Какие-то слабенькие теперь уколы. Бывало, укол сделают, — так три дня до тебя не дотронься: все болит. А счас сделают — в башке не гудит, и по телу ничего не слышно.
…И вот Носатый прет на Лобастого:
— Да их же нельзя вместе-то! Их же… Во дает! Во тункель-то!
— Не ори, — советует Лобастый. — Криком ничего не возьмешь.
Носатый — это не загадка, но тоже… ничего себе человечек. Все знает. Решительно все. Везде и всем дает пояснения; и когда он кричит, что волк съест козу, я как-то по-особенному отчетливо знаю, что волк это сделает — съест. Аккуратно съест, не будет рычать, но съест. И косточками похрустит.
— Трихопол?! — кричит Носатый в столовой. — Это — для американского нежного желудка, но не для нашего. При чем тут трихопол, если я воробья с перьями могу переварить! — и таков дар у этого человека — я опять вижу и слышу, как трепещется живой еще воробей и исчезает в железном его желудке.
Третья бледно-зеленая пижама — это Курносый. Тот все вспоминает сражения и обожает телевизор. Смотрит, приоткрыв рот. Смотрит с таким азартом, с такой упорной непосредственностью, что все невольно его слушаются, когда он, например, велит переключить на «Спокойной ночи, малыши». Смеется от души, потому что все там понимает. С ним говорить, что колено брить — зачем?..
Вот эти-то трое схватились решать весьма сложную проблему. Шуму, как я сказал, сразу получилось много.
Да, еще про Носатого… Его фамилия — Суворов. Он крупно написал ее на полоске плотной бумаги и прикнопил к своей клеточке в умывальнике. Мне это показалось неуместным, и я подписал с краешку карандашом: «Не Александр Васильевич». Возможно, я сострил не бог весть как, но неожиданно здорово разозлил Суворова. Он шумел в умывальнике:
— Кто это такой умный нашелся?!
— А зачем вообще надо объявлять, что эта клеточка — Суворова? Ни у кого же нет. Вы что, полагаете… — пустился было в длинные рассуждения один вежливый очкарик, но Суворов скружил на него ястребом.
— Тогда чего же мы жалуемся, что у нас в почтовом ящике газеты поджигают?! Сегодня — карандаш, завтра — нож в руки!..
— Ну, знаете, кто взял в руки карандаш, тот…
— Пожалуйста, можно и без ножа по очкам дать. По-моему я догадываюсь, кто это тут такой грамотный… Очкарик побледнел.
— Кто?
— Сказать? Может, носом ткнуть?
Мне стало больно за очкарика, и я, как частенько я, выступил блестящим недомерком.
— А чего вы озверели-то? Ну, пошутил кто-то, и из-за этого надо шум поднимать.
— За такие шутки надо… не шум поднимать! Не шум надо поднимать, а тянуть куда следует.
Дурак он. Дурак и злой.
— …Как же ты туда повезешь волка, когда там коза?! — кричит Суворов. — Он же ее съест!
— Связать, — предлагает Курносый.
— Кого связать?
— Волка.
— Нельзя, тункель!
— А чего ты обзываешься-то? Мы предлагаем, как выйти из положения, а ты…
— Как же тут не кричать, скажи на милость?! Если вы не понимаете элементарных вещей…
Лобастый упорно думает.
— Как все покричать любят! — изумляется Курносый. — Знаешь — объясни. Чего кричать-то?
— Полные тункели! — удивляется в свою очередь Суворов. — Какой же тогда смысл в этой задаче? Ну — объяснил я, и все? А самим-то можно подумать?
— Вот мы и думаем. И предлагаем разные варианты. А ты наберись терпения.
— Привыкли люди, чтоб за них думали! Сами — в сторонку, а за них думай!
— Волк капусту не ест, — размышляет вслух Лобастый. — Значит его можно здесь оставить…
— Ну! ну! ну! — подталкивает Суворов.
— Не понужай, не запрег.
— Давай дальше! Волк капусту не ест… Правильно начал!
Серые, глубокие глаза Лобастого тихо сияют.
— Начать — это начать, — бормочет он. По-моему, он уже сообразил, как надо делать. — Говорят: помоги, господи, подняться, а ляжем сами. Значит, козу отвезли. Так?
— Ну!
— Плывем назад, берем капусту…
— Ее же там коза сожрет! — волнуется Курносый.
— Сожрет? — спрашивает Лобастый, и в голосе его чувствуется мощь и ирония. — Тада мы ее назад оттуда, раз она такая прожорливая.
— А тут волк!
— А мы волка — туда. Пусть он у нас капустки опробует…
Суворов радостно хлопает Лобастого но спине; и так как мне все время что-нибудь кажется, когда Суворов что-нибудь делает, то на этот раз почему-то кажется, что он хлопнул по лафету тяжелой пушки, и пушка на это никак не вздрогнула.
— А-а! — догадывается Курносый. Ему тоже весело, и он смеется. — А потом уж мы туда — козу, в последнюю очередь!
— Дошло! — орет Суворов. Он просто не может не орать. Все мы тут — крепко устали, нервные, — это тебе не высоту брать.
— Сравнил телятину с… — обиделся Курносый.
Лобастый долго, терпеливо, осторожно мнет в толстых пальцах каменную «памирину», смотрит на нее… И я вдруг ужасаюсь его нечеловеческому терпению, выносливости. И понимаю, что это — не им одним нажито, такими были его отец, дед… Это — вековое.
Лобастый по привычке едва заметным движением тронул куртку, убедился, что спички в кармане, встал, пошел в курилку. Я — за ним. Посидеть с ним, помолчать.
МИХАИЛ ЗОЩЕНКО
КОЗА
Без пяти четыре Забежкин сморкался до того громко, что нос у него гудел, как труба иерихонская, а бухгалтер Иван Нажмудинович от испуга вздрагивал, ронял ручку на пол и говорил:
- Ох, Забежкин, Забежкин, нынче сокращение штатов идет, как бы тебе, Забежкин, тово, - под сокращение не попасть... Ну, куда ты торопишься?
Забежкин прятал платок в карман и тряпочкой начинал обтирать стол и чернильницу.
Двенадцать лет сидел Забежкин за этим столом. Двенадцать лет! Подумать даже страшно, какой это срок не маленький. Ведь если за двенадцать лет пыль, скажем, ни разу со стола не стереть, так, наверное, и чернильницы не видно будет?
В четыре ровно Забежкин двигал нарочно стулом, громко говорил: "Четыре", четыре костяшки отбрасывал на счетах и шел домой. А шел Забежкин всегда по Невскому, хоть там и крюк ему был. И не потому он шел по Невскому, что на какую-нибудь встречу рассчитывал, а так - любопытства ради: все-таки людей разнообразие, и магазины черт знает какие, да и прочесть смешно, что в каком ресторане люди кушают.
А что до встреч, то бывает, конечно, всякое... Ведь вот, скажем, дойдет Забежкин сейчас до Садовой, а на Садовой, вот там, где черная личность сапоги гуталином чистит, - дама вдруг... Черное платье, вуалька, глаза... И подбежит эта дама к Забежкину... "Ох, - скажет, - молодой человек, спасите меня, если можете... Ко мне пристают, оскорбляют меня вульгарными словами и даже гнусные предложения делают..." И возьмет Забежкин даму эту под руку, так, касаясь едва, и вместе с тем с необыкновенным рыцарством, и пройдут они мимо оскорбителей презрительно и гордо... А она, оказывается, дочь директора какого-нибудь там треста.
Или еще того проще - старичок. Старичок в высшей степени интеллигентный идет. И падает вдруг. Вообще головокружение. Забежкин к нему... "Ах, ах, где вы живете?" Извозчик... Под ручку... А старичок, комар ему в нос, - американский подданный... "Вот, - скажет, - вам, Забежкин, триллион рублей..."
Конечно, все это так, вздор, романтизм, бессмысленное мечтание. Да и какой это человек может подойти к Задбежкину? Какой это человек может иметь что-либо вообще с Забежкиным? Тоже ведь и наружность многое значит. А у Забежкина и шея тонкая, и все-таки прически никакой нет, и нос загогулиной. Ну, еще нос и шея куда ни шло - природа, а вот прически, верно, никакой нету. Надо будет отрастить в срочном порядке. А то прямо никакого виду.
И будь у Забежкина общественное положение значительное, то и делу был бы оборот иной. Будь Забежкин квартальным надзирателем, что ли, или хотя бы агрономом, то и помириться можно бы с наружностью. Но общественное положение у Забежкина не ахти было какое. Впрочем, даже скверное. Да вот, если сделать смешное сравнение, при этом смеясь невинно, если бухгалтера Ивана Нажмудиновича приравнять щуке, а рассыльного Мишку - из союза молодежи - сравнить с ершом, то Забежкин, даром что коллежский регистратор бывший, а будет никак не больше уклейки или даже колюшки крошечной.
Так вот, при таких-то грустных обстоятельствах мог ли Забежкин на какой-нибудь романтизм надеяться?
Anton Braith (German, 1836-1905) Studium an der Kunstgewerbeschule Stuttgart und der Akademie Munchen
2
Но однажды приключилось событие.
Однажды Забежкин захворал. То есть не то чтобы слишком захворал, а так, виски заломило это ужасно как.
Забежкин и линейку к вискам тискал, и слюнями лоб мазал - не помогает. Пробовал Забежкин в канцелярские дела углубиться.
Какие это штаны? Почему две пары? Не есть ли это превышение власти? Почему бухгалтеру Ивану Нажмудиновичу сверх комплекта шинелька отпущена, и куда это он, собачий нос, позадевал шинельку эту? Не загнал ли, подлая личность, на сторону казенное имущество?
Виски заломило еще пуще.
И вот попросил Забежкин у Ивана Нажмудиновича домой пораньше уйти.
- Иди, Забежкин, - сказал Иван Нажмудинович, и таким печальным тоном, что и сам чуть не прослезился. - Иди, Забежкин, но помни - нынче сокращение штатов...
Взял Забежкин фуражку и вышел.
И вышел Забежкин по привычке на Невский, а на Невском, на углу Садовой, помутилось у него в глазах, покачнулся он, поскреб воздух руками и от слабости необыкновенной к дверям магазина прислонился. А из магазина в это время вышел человек (так, обыкновенного вида человек, в шляпе и в пальто коротеньком) и, задев Забежкина локтем, приподнял шляпу и сказал:
- Извиняюсь.
- Господи! - сказал Забежкин. - Да что вы? Пожалуйста...
Но прохожий был далеко.
"Что это? - подумал Забежкин. - Чудной какой прохожий. Извиняюсь, говорит... Да разве я сказал что-нибудь против? Да разве он пихнул меня? Это же моль, мошкара, мошка крылами задела... И кто ж это? Писатель, может быть, или какой-нибудь всемирный ученый... Извиняюсь, говорит. Ах ты штука какая! И ведь лица даже не рассмотрел у него..."
- Ах! - громко сказал Забежкин и вдруг быстро пошел за прохожим.
И шел Забежкин долго за ним - весь Невский и по набережной. А на Троицком мосту вдруг потерял его из виду. Две дамы - шли - шляпки с перьями - заслонили, и как в Неву сгинул необыкновенный прохожий.
А Забежкин все шел вперед, махал руками, сиял носом, просил извинения у встречных и после неизвестно кому подмигивал.
"Ого, - вдруг подумал Забежкин, - куда же это такое я зашел? Каменноостровский... Карповка... Сверну", - подумал Забежкин. И свернул по Карповке.
И вот - трава. Петух. Коза пасется. Лавчонки у ворот. Деревня, совсем деревня!
"Присяду", - подумал Забежкин и присел у ворот на лавочке.
И стал свертывать папиросу. А когда свертывал папиросу, увидел на калитке объявление:
"Сдается комната для одинокого. Женскому полу не тревожиться".
Три раза кряду читал Забежкин объявление это и хотел в четвертый раз - читать, но сердце вдруг забилось слишком, и Забежкин снова сел на лавку.
"Что ж это, - подумал Забежкин, - странное какое объявление? И ведь не зря же сказано: одинокому. Ведь это что же? Ведь это, значит, намек. Это, дескать, в мужчине нуждаются... Это мужчина требуется, хозяин. Господи, твоя воля, так ведь это же хозяин требуется!"
Забежкин в волнении прошелся по улице и вдруг заглянул в калитку. И отошел.
- Коза! - сказал Забежкин. - Ей-богу, правда, коза стоит... Дай бог, чтоб коза ее была, хозяйкина... Коза! Ведь так, при таком намеке, тут и жениться можно. И женюсь. Ей-богу, женюсь! Ежели скажем, есть коза - женюсь. Баста. Десять лет ждал - и вот... Судьба... Ведь ежели рассуждать строго, ежели комната внаймы сдается, - значит, квартира есть. А квартира - хозяйство значит, полная чаша." Поддержка... Фикус на окне. Занавески из тюля. Занавесочки толковые. Покоя... Ведь это же ботвинья по праздникам!.. А жена, скажем, дама - солидная, порядок обожает, порядком интересуется, и сама в сатиновом капоте павлином по комнате ходит, и все так великолепно, все так благородно, и все только и спрашивает: "Не хочешь ли, Петечка, покушать?" Ах тут штука какая! Хозяйство ведь. Корова, возможно, или коза дейная. Пускай коза лучше - жрет меньше.
Забежал - открыл калитку.
- Коза! - сказал он задыхаясь. - У забора коза. Да ведь ежели коза, так и жить нетрудно. Ежели коза, то смешно даже... Пускай Иван Нажмудинович завтра скажет: "Вот дескать, слишком мне тебя жаль, Забежкин, но уволен ты по сокращению штатов..." Хе-хе, ей-богу, смешно... Удивится, сукин сын, поразится до чего, ежели после слов таких в ножки не упаду, просить не буду... Пожалуйста. Коза есть. Коза, черт меня раздери совсем! Ах ты вредная штука! Ах ты, смех какой!.. А женскому-то полу плюха какая, женский-то пол до чего дожил - не тревожиться. Не лезь, дескать, комар тебе в нес, здесь его величество мужчина требуется...
Тут Забежкин еще раз прочел объявление и, выпятив грудь горой, с необыкновенной радостью вошел во двор.
3
У помойной ямы стояла коза. Была она безрогая, и вымя у ней висело до земли.
"Жаль, - с грустью подумал Забежкин, - старая коза, дай бог ей здоровья".
Во дворе мальчишки в чижика играли. А у крыльца девка какая-то столовые ножи чистила. И до того она с остервенением чистила, что Забежкин, забыв про козу, остановился в изумлении.
Девка яростно плевала на ножи, изрыгала слюну прямо-таки, втыкала ножи в землю и, втыкая, сама качалась на корточках и хрипела даже.
"Вот дура-то", - подумал Забежкин.
Девка изнемогала.
- Эй, тетушка, - сказал Забежкин громко, - где же это тут комната внаймы сдается?
Но вдруг открылось окно над Забежкиным, я чья-то бабья голова с флюсом, в платке вязаном, выглянула во двор.
- Товарищ, - спросила голова, - вам не ученого ли агронома Пампушкина нужно будет?
- Нет, - ответил Забежкин, снимая фуражку, - не имею чести... Я насчет, как бы сказать, комнаты, которая внаймы.
- А если ученого агронома Пампушкина, - продолжала голова, - так вы не ждите зря, он нынче принять никак не может, он ученый труд пишет про что-то.
Голова обернулась назад и через минуту снова выглянула.
- "Несколько слов в защиту огородных вредителей"...
- Чего-с? - спросил Забежкин.
- А это кто спрашивает? - сказал агроном, сам подходя к окну. - Здравствуйте, товарищ!.. Это, видите ли, статья: "Несколько слов в защиту огородных "вредителей"... Да вы поднимитесь наверх.
- Нет, - сказал Забежкин пугаясь, - я комнату, которая внаймы...
- Комнату? - спросил агроном с явной грустью. - Ну, так вы после комнаты... да вы не стесняйтесь...
Третий номер, ученый агроном Пампушкин... Каждая собака знает...
Забежкин кивнул головой и подошел к девке.
- Тетушка, - спросил Забежкин, - это чья же, например, коза будет?
- Коза-то? - спросила девка. - Коза эта из четвертого номера.
- Из четвертого? - охнул Забежкин. - Да это не там ли, извиняюсь, комната сдается?
- Там, - сказала девка. - Только сдана комната.
- Как же так? - испугался Забежкин. - Не может того быть. Да ты что, опупела, что ли? Как же так - сдана комната, ежели я и время потратил, проезд, хлопоты...
- А не знаю, - ответила девка, - может, и не сдана.
- Ну, то-то - не знаю, дура такая. Не знаешь, так лучше и не говори. Не извращай событий. Ты вот про кур лучше скажи - чьи куры ходят?
- Куры-то? Куры Домны Павловны.
- Это какая же Домна Павловна? Не комнату ли она сдает?
- Сдана комната! - с сердцем сказала девка, в подол собирая ножи.
- Врешь. Ей-богу, врешь. Объявление есть. Ежели бы объявления не было, тогда иное дело, - я бы не сопротивлялся. А тут - объявление. Колом не вышибешь... Заладила сорока Якова: "Сдана, сдана..." Дура такая. - Ты лучше скажи: индейский петух, наверное, уже не ее?
- Ее.
- Ай-я-яй! - удивился Забежкин. - Так ведь она же богатая дама?
Девка ничего не ответила, икнула в ладонь и ушла.
Забежкин подошел к козе и пальцем потрогал ей морду.
"Вот, - подумал Забежкин, - ежели сейчас лизнет в руку - счастье: моя коза".
Коза понюхала руку и шершавым тонким языком лизнула Забежкина.
- Ну, ну, дура! - сказал, задыхаясь, Забежкин. - Корку хочешь? Эх, была давеча в кармане корка, да не найду что-то... Вспомнил: съел я ее, Машка. Съел, извиняюсь... Ну, ну, после дам...
Забежкин в необыкновенном волнении нашел четверг тую квартиру и постучал в зеленую рваную клеенку.
- Вам чего? - спросил кто-то, открывая дверь.
- Комната...
- Сдана комната! - сказал кто-то басом, пытаясь закрыть дверь. Забежкин крепко ее держал руками.
- Позвольте, - сказал Забежкин, пугаясь, - как же так? Позвольте же войти, уважаемый товарищ... Как же так? Я время потратил... Проезд... Объявление ведь...
- Объявление? Иван Кириллыч! Ты что ж это объявление-то не снял?
Тут Забежкин поднял глаза и увидел, что разговаривает он с дамой и что дама - размеров огромных. И нос у ней никак не меньше забежкинского носа, а корпус такой обильный, что из него смело можно двух Забежкиных выкроить, да еще кой-что останется.
- Сударыня, уважаемая мадам, - сказал Забежкин, снимая фуражку и для чего-то приседая, - мне - бы хоть чуланчик какой-нибудь отвратительный, конурку, конуронушку...
- А вы из каких будете? - спросила изрядным басом Домна Павловна.
- Служащий...
- Ну что ж, - сказала Домна Павловна, вздыхая, - пущай тогда. Есть у меня еще одна комнатушка. Не обижайтесь только подле кухни...
Тут Домна Павловна по неизвестной причине еще раз грустно вздохнула и повела Забежкина в комнаты.
- Вот, - сказала она, - смотрите. Скажу прямо: дрянь комната. И окно дрянь. И вид никакой, а в стену. А вот с хорошей комнатой опоздали, батюшка. Сдана хорошая комната. Военному телеграфисту сдана.
- Прекрасная комната! - воскликнул Забежкин. - Мне очень нравятся такие комнаты подле кухни... Разрешите - я и перееду завтра...
- Ну что ж, - сказала Домна Павловна. - Пущай тогда. Переезжайте.
Забежкин низенько поклонился и вышел. Он подошел к воротам, еще раз с грустью прочел объявление, сложил его и спрятал в карман.
"Да-с, - подумал Забежкин, - с трудом, с трудом счастье дается... Вот иные в Америку и в Индию очень просто ездят и комнаты снимают, а тут... Да еще телеграфист... Какой это телеграфист? А ежели, скажем, этот телеграфист да помешает? С трудом, с трудом счастье дается!"
Jean-Baptiste-Camille Corot (French, 1796-1875) The Goat Herd of Genzano. 1843 г. Philips Collection, Washington
4
Забежкин переехал. Это было утром. Забежкин вкатил тележку во двор, и тотчас все окна в доме открылись, и бабья голова с флюсом, высунувшись из окна на этот раз по пояс, сказала: "Ага!" И ученый агроном Пампушкин, оставив ученую статью "Несколько слов в защиту вредителей", подошел к окну.
И сама Домна Павловна милостиво сошла вниз.
Забежкин развязывал свое добро.
- Подушки! - сказали зрители.
И точно: две подушки, одна розовая с рыжим пятном, другая синенькая в полоску, были отнесены наверх.
- Сапоги! - вскричали все в один голос. - Перед глазами изумленных зрителей предстали четыре пары сапог. Сапоги были новенькие, и сияли они носками, и с каждой пары бантиком свешивались шнурки. И бабья голова с флюсом сказала с уважением: "Ото!" И Домна Павловна милостиво потерла полные свои руки. И сам ученый агроном прищурил свои ученые глаза и велел мальчишкам отойти от тележки, чтобы видней было.
- Книги... - конфузясь, сказал Забежкин, вытаскивая три запыленные книжки.
- Книги?
И ученый агроном счел необходимым спуститься вниз.
- Очень приятно познакомиться с интеллигентным человеком, - сказал агроном, с любопытством рассматривая сапоги. - Это что же, - продолжал он, - это не по ученому ли пайку вы изволили получить сапоги эти?
- Нету, - сказал Забежкин, сияя, - это в некотором роде частное приобретение и, так сказать, движимость. Иные, знаете ли, деньги предпочитают в брильянтах держать... а, извиняюсь, что такое брильянты? Только что блеск да бессмысленная игра огней...
- М-м, - сказал агроном с явным сожалением, - то-то я и смотрю - что такое? - будто бы и не такие давали по ученому. Цвет, что ли, не такой?
- Цвет! - сказал Забежкин в восторге. - Это цвет, наверное, не такой. Такой цвет - раз, два и обчелся...
- Катюшечка! - крикнул агроном голове с флюсом. - Вынеси-ка, голубчик, сапоги, что давеча по ученому пайку получили.
Сожительница агронома вынесла необыкновенных размеров рыжие сапоги. Вместе с сожительницей во двор вышли все жильцы дома. Вышла даже какая-то очень древнего вида старушка, думая, что раздают сапоги бесплатно. Вышел и телеграфист, ковыряя в зубах спичкой.
- Вот! - закричал агроном, обильно брызгая в Забежкина слюной. - Вот, милостивый государь, обратите ваше внимание!
Агроном пальцем стучал в подметку, пробовал ее зубами, подбрасывал сапоги вверх, бросал их наземь, - они падали, как поленья.
- Необыкновенные сапоги! - орал агроном на Забежкина таким голосом, точно Забежкин вел агронома расстреливать, а тот упирался. - Умоляю вас, взгляните! Нате! Бросайте их на землю, бросайте - я отвечаю!
Забежкин сказал:
- Да. Очень необыкновенные сапоги. Но ежели их на камни бросать, то они могут не выдержать...
- Не выдержат? Эти-то сапоги не выдержат? Да чувствуете ли вы, милостивый государь, какие говорите явные пустяки? Знаете ли, что вы меня даже оскорбляете этим. Не выдержат! - горько усмехнулся агроном, наседая на Забежкина.
- На камни, безусловно, выдержат, - с апломбом сказал вдруг телеграфист, вылезая вперед, - а что касается... Под тележку если, например, и тележку накатить враз - нипочем не выдержат.
- Катите! - захрюкал агроном, бросая сапоги. - Катите, на мою голову!
Забежкин налег на тележку и двинул ее Сапоги помялись и у носка лопнули.
- Лопнули! - закричал телеграфист, бросая фуражку наземь и топча ее от восторга.
- Извиняюсь, - сказал агроном Забежкину, - это нечестно и нетактично, милостивый государь! Порядочные люди прямо наезжают, а вы боком... Это подло даже, боком наезжать. Нетактично и по-хамски с вашей стороны!
- Пускай он отвечает, - сказала сожительница агронома. - Он тележку катил, он и отвечает. Это каждый человек начнет на сапоги тележку катить - сапог не напасешься.
- Да, да, - сказал агроном Забежкину, - извольте теперь отвечать полностью.
- Хорошо, - ответил печально Забежкин, интересуясь телеграфистом, - возьмите мою пару.
Телеграфист, выплюнув изо рта спичку и склонившись над сапогами, хохотал тоненько с привизгиваньем, будто его щекотали под мышками.
"Красавец! - с грустью думал Забежкин. - И шея хороша, и нос нормальный, и веселиться может..."
Так переехал Забежкин.
Frans Hals Three Children with a Goat Cart. 1620 г. Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, Brussels
5
На другой день все стало ясно: телеграфист Забежкину мешал.
Не Забежкину несла Домна Павловна козье молоко, не Забежкину пеклось и варилось на кухне, и не для Забежкина Домна Павловна надела чудный сиреневый капот.
Все это пеклось, варилось и делалось для военного телеграфиста, Ивана Кирилловича.
Телеграфист лежал на койке, тренькал на гитаре и пел нахальным басом. В песнях ничего смешного не было, но Домна Павловна смеялась.
"Смеется, - думал Забежкин, слушая, - и, наверное, сидит в ногах телеграфистовых. Смеется... Значит, ей, дуре, весело, а весело, значит, ощущает что-нибудь. Так ведь и опоздать можно".
Целый день Забежкин провел в тоске. Наутро пошел в канцелярию. Работать не мог. И какая, к черту, может быть работа, ежели, скажем, такое беспокойство. Мало того, что о телеграфисте беспокойство, так и хозяйство все-таки. Тоже вот домой нужно прийти. Там на двор.
Кур проверить. Узнать - мальчишки не гоняли ли, а если, скажем, гонял кто, - вздрючить того. Козе тоже корку отнести нужно... Хозяйство...
"А хоть и хозяйство, - мучился Забежкин, - да чужое хозяйство. И надежда малюсенькая. Малюсенькая, оттого, что телеграфист мешает".
Придя домой, Забежкин прежде всего зашел в сарай.
- Вот, Машка, - сказал Забежкин козе, - кушай, дура. Ну, что смотришь? Грустно? Грустно, Машка. Телеграфист мешает. Убрать его, Машка, требуется. Ежели не убрать - любовь корни пустит.
Коза съела хлеб и обнюхивала теперь Забежкину руку.
- А как убрать его, Машка? Он, Машка, спортсмен, крепкий человек, не поддастся на пустяки. Он, сукин сын, давеча в трусиках бегал. Закаленный. А я, Машка, человек ослабший, на меня революция подействовала... И как удрать, ежели он и сам заметно хозяйством интересуется. Чего это он, скажи, пожалуйста, заходил в сарай давеча?
Коза тупо смотрела на Забежкина.
- Ну, пойду, Машка, пойду, может, и выйдет что. Тут с телеграфиста начать надо. Телеграфист - главная запятая. Не будь его, я бы, Машка, вчера еще с Домной Павловной кофей бы пил... Ну, пойду...
И Забежкин пошел домой. Он долго ходил по своей узкой комнате, бубнил под нос невнятное, размахивая руками, потом вынул из комода сапоги и, грустно покачивая головой, завернул одну пару в бумагу. И пошел к телеграфисту.
В комнату Забежкин вошел не сразу. Он постоял у двери Ивана Кирилловича, послушал. Телеграфист кряхтел, ворочался по комнате, двигая стулом.
"Сапоги чистит", - подумал Забежкин и постучал.
Точно: телеграфист чистил сапоги. Он дышал на них, внимательно обводил суконкой и ставил на стул то одну, то другую ногу.
- Пардон, - сказал телеграфист, - я ухожу, извиняюсь, скоро.
- А ничего, - сказал Забежкин, - я на секундочку... Я, как сосед ваш по комнате и, так сказать, под одним уважаемым крылом Домны Павловны, почел долгом представиться: сосед и бывший коллежский регистратор Петр Забежкин.
- Ага, - сказал телеграфист, - ладно. Пожалуйста.
- И, как сосед, - продолжал Забежкин, - считаю своим долгом, по кавказскому обычаю, подарок преподнести - сапожки.
- Сапоги? За что же, помилуйте, сапоги? - спросил телеграфист, любуясь сапогами. - Мне даже, напротив того, неловко, уважаемый сосед... Я не могу так, знаете ли.
- Ей-богу, возьмите...
- Разве что по кавказскому обычаю, - сказал телеграфист, примеряя сапоги. - А вы что же, позвольте узнать, уважаемый сосед, извиняюсь, на Кавказ путешествовали?.. Горы, наверное? Эльбрус, черт его знает какой? Нравы... Туда, уважаемый сосед, и депеши на другой день только доходят... Чересчур отдаленная страна...
- Нет, - сказал Забежкин, - это не я. Это Иван Нажмудинович на Кавказ ездил. Он даже в Нахичевани был...
Еще Забежкин хотел рассказать про кавказские нравы, но вдруг сказал:
- Батюшка, уважаемый сосед, молодой человек! Вот я сейчас на колени опущусь...
И Забежкин встал на колени. Телеграфист испугался и закрыл рот.
- Батюшжа, уважаемый товарищ, бейте меня, уничтожайте! До боли бейте.
Телеграфист, думая, что Забежкин начнет его сейчас бить, размахнулся и ударил Забежкина.
- Ну, так! - сказал Забежкин, падая и вставая снова - Так. Спасибо! Осчастливили. Слезы у меня текут... Я решенья жду - съезжайте с квартиры, голубчик, уважаемый товарищ.
- Как же так? - спросил телеграфист, закрывая рву. - Странные ваши шутки.
- Шутки! Драгоценное слово - шутки! Батюшка сосед, Иван Кириллович, вам - с Домней Павловной баловство и шутки, а мне - настоящая жизнь. Вот весь перед вами варотился... Съезжайте с квартиры, в четверг же съезжайте... Остатний раз прошу. Плохо будет.
- Чего? - спросил телеграфист. - Плохо? Мне до самой смерти плохо не будет. А если приспичило вам... да нет, странные шутки... Не могу-с.
- Батюшка, я еще чем-нибудь попрошу...
- Не могу-с. Да и за что же мне с квартиры съезжать... Мне нравится эта старяга. Да вы, впрочем, хорошенько попросите. Расход ведь в переездах, и, вообще, вы попросите. Я люблю, когда меня просят.
Забежкин бросился в свею комнату и через минуту вернулся.
- Вот! - сказал он, задыхаясь. - Вот еще сапожки и шнурки сот запасные.
Телеграфист примерил сапоги и сказал:
- Жмут. Ну, ладно. Дайте срок - съеду. Только странные ваши шутки...
Забежкин зашел в свою комнату и тихонько сел у окна.
6
Забежкин на службу не пошел.
С куском хлеба он пробрался в сарай и сел перед козой на корточки.
- Готово, Машка Шабаш Убрал вчера телеграфиста Кобенился и сопротивлялся, ну, да ничего - свалил. Сапоги ему, Машка, отдал... Теперь что же, Машка? Теперь Домна Павловна осталась. Тут, главное, на чувства рассчитывать нужно. На эстетику, Машка. Розу сейчас пойду куплю. Вот, скажу, вам роза - нюхайте... Завтра куплю, а нынче запарился я, Машка... Ну, ну, нету больше. Хватит.
Забежкин прошел в свою комнату и лег на кровать. Розу он купить не успел. Домна Павловна пришла к нему раньше.
Она сказала:
- Ты что ж это сапогами-то даришься? Ты к чему это сапоги телеграфисту отдал?
- Подарил я, Домна Павловна. Хороший он очень человек. Чего ж, думаю, ему не подарить? Подарил, Домна Павловна.
- Это Иван Кириллович-то хороший человек? - спросила Домна Павловна. - Неделю, подлец, не живет и до свиданья. С квартиры съезжает... Это он-то хороший человек? Отвечай, если спрашивают?!
- А я, Домна Павловна, думал...
- Чего ты думал? Чего ты, раззява, думал?
- Я думал, Домна Павловна, он и вам нравится. Вы завсегда с ним хохочете...
- Это он-то мне нравится? - Домна Павловна всплеснула руками. - Да он цельные дни бильярды гоняет, а после с девчонками... Чего я в нем не видала? Да он и внимания-то своего на меня не обратит... Ну, и врать же ты... Да он, прохвост ты человек при наружности своей первую красавицу возьмет, а не меня. Ну, и дурак же ты.
- Домна Павловна, - сказал Забежкин, - про красавицу это до чего верно вы; сказали - слов нет. Это такой человек, Домна Павловна... Он заврался давеча: люблю, говорит, тоненьких красавиц, а на других и вниманья не обращу. Ведь это он, Домна Павловна, про вас намекал.
- Ну? - спросила Домна Павловна.
- Ей-богу, Домна Павловна... Он тонкую возьмет, ейбогу, правда - уколоться об локоть можно у вас он и рад, гадина. А вот я, Домна Павловна, я на крупную фигуру всегда обращу свое вниманье. Я, Домна Павловна, такими, как вы, увлекаюсь.
- Ври еще!
- Нет, Домна Павловна, мне нельзя врать. Вы для меня - это очень превосходная дама... И для многих тоже... Ко мне, помните, Домна Павловна, человек заходил - тоже заинтересовался. Это, спрашивает, кто же такая гранд-дам интереснейшая?
- Ну? - спросила Домна Павловна. - Так и сказал?
- Так и сказал, дай бог ему здоровья. Это, говорит, не актриса ли Люком?
Домна Павловна села рядом с Забежкиным.
- Да это какой же, не помню чего-то? Это не тот ли - рыжеватый будто и угри на носу?
- Тот, Домна Павловна. Тот самый, и угри на носу, дай бог ему здоровья!
- А я думала, он к Ивану Кириллычу прошел... Так ты бы его к столу пригласил. Сказал бы: вот, мол, Домна Павловна кофею просит выкушать... Ну, а что он еще такое говорил? Про глаза ничего не говорил?
- Нет, - сказал Забежкин, задыхаясь, - нет, Домна Павловна, про глаза это я говорил. Я говорил: люблю такие превосходные глаза, млею даже, как посмотрю... И мечтаю почаще их видеть...
- Ну, ну, уж и любишь? - удивилась Домна Павловна. - Поел, может, чего лишнего, - вот и любишь.
- Поел! - вскричал Забежкин. - Это я-то поел, Домна Павловна! Нет, Домна Павловна, раньше это точно я превосходно кушал, рвало даже, а ныне я, Домна Павловна, на хлебце больше.
- Глупенький, - сказала Домна Павловна, - ты бы ко мне пришел. Вот, сказал бы...
- А я вас, Домна Павловна, совершенно люблю! - вскричал Забежкин. - Скажите: упади, Забежкин, из окна, - упаду, Домна Павловна! Как стелечка на камни лягу и имя еще прославлять буду!
- Ну, ну, - сказала Домна Павловна конфузясь.
И ушла вдруг из комнаты. И только Забежкин хотел к козе пойти, как Домна Павловна снова вернулась.
- Побожись, - сказала она строго, - побожись, что верно сказал про чувства...
- Вот вам крест и икона святая...
- Ну, ладно. Не божись зря. Кольца купить нужно... Чтобы венчанье и певчие.
- И певчие! - закричал Забежкин. - И певчие, Домна Павловна. И все так великолепно, все так благородно... дозвольте же в ручку поцеловать, Домна Павловна! Вот-с... А я-то, Домна Павловна, думал - чего это мне не до себе все? На службе невтерпеж даже, домой рвусь... А это чувство...
Домна Павловна стояла торжественно посреди комнаты.
Вокруг нее ходил Забежкин и говорил:
- Да-с, Домна Павловна, чувство... Давеча я, Домна Павловна, опоздал на службу, - размечтался на разные разности, а когда пришел, Иван Нажмудинович ужасно так строго на меня посмотрел. Я сел и работать не могу.
Сижу и на книжке де и не рисую. А Иван Нажмудинович галочки сосчитал (у нас, Домна Павловна, всегда, кто опоздал, галочку насупротив фамилии пишут), так Иван Нажмудинович и говорит: "Шесть галочек насупротив фамилии Забежкин... Это не поперли бы его по сокращению штатов..."
- А пущай! - сказала Домна Павловна. - И так хватит.
Венчанье Домна Павловна назначила через неделю.
7
В тот день, когда телеграфист собрал в узлы свои вещи и сказал: "Не поминайте лихом, Домна Павловна, завтра я съеду", - в тот день все погибло.
Ночью Забежкин сидел на кровати перед Домной Павловной и говорил:
- Мне, Домна Павловна, счастье с трудом дается. Иные очень просто и в Америку ездят и комнаты внаймы берут, а я, Домна Павловна... Да вот, не пойди я тогда за прохожим, ничего бы и не было. И вас бы, Домна Павловна, не видеть мне, как ушей своих... А тут прохожий. Объявление. Девицам не тревожиться. Хе-хе, плюха-то какая девицам, Домна Павловна!
- Ну, спи, спи! - строго сказала Домна Павловна. - Поговорил и спи.
- Нет, - сказал Забежкин, поднимаясь, - не могу я спать, у меня, Домна Павловна, грудь рвет. Порыв... Вот я, Домна Павловна, мысль думаю... Вот коза, скажем, Домна Павловна, такого счастья не может чувствовать...
- А?
- Коза, я говорю, Домна Павловна, не может ощущать такого счастья. Что ж коза? Коза - дура. Коза и есть коза. Ей бы, дуре, только траву жрать. У ней и запросов никаких нету. Ну, пусти ее на Невский - срамота выйдет, недоразумение... А человек, Домна Павловна, все-таки запросы имеет. Вот, скажем, меня взять. Давеча иду по Невскому - тыква в окне. Заеду, думаю, узнаю, какая цена той тыкве. И зашел. И все-таки человеком себя - чувствуешь. А что ж коза, Домна Павловна? Вот хоть бы и Машку вашу взять - дура, дура и есть. Человек и ударить козу может и бить даже может и перед законом ответственности не несет - чист, как стеклышко.
Домна Павловна села.
- Какая коза, - сказала она, - иная коза при случае и забодать может человека.
- А человек, Домна Павловна, козу палкой, палкой по башке по козлиной.
- Ну и знай, коза - может молока не дать, как телеграфисту давеча.
- Как телеграфисту? - испугался Забежкин. - Да чего ж он ходит туда? Да как же это коза может молока не дать, ежели она дойная?
- А так и не даст!
- Ну, уж это пустяки, Домна Павловна, - сказал Забежкин, дохаживая по комнате. - Это уж. Что ж это? Это бунт будет.
Домна Павловна тоже встала.
- Что ж это? - сказал Забежкин. - Да ведь это же, Домна Павловна, вы странные вещи говорите... А вдруг да когда-нибудь, Домна Павловна, животные протест человеку объявят? Козы, например, или коровы, которые дойные. А? Ведь может же такое быть когда-нибудь? Начнешь их доить, а они бодаются, - копытами по животам бьют. И Машка наша может копытами... А ведь Машка наша, Домна Павловна, забодать, например, Ивана Нажмудиныча может.
- И очень просто, - сказала Домна Павловна.
- А ежели, Домна Павловна, не Иван Нажмудиныча забодает Машка, а - комиссара, товарища Нюшкина? Товарищ Нюшкин из мотора выходит, Арсений дверку перед ним - пожалуйте, дескать, товарищ Нюшкин, а коза Машка, спрятавшись, на дверкой стоит. Товарищ Нюшкин - шаг, и она подойдет, да и тырк его в живот по глупости.
- Очень просто, - сказала Домна Павловна.
- Ну, тут народ стекается. Конторщики. А товарищ Пушкин очень даже рассердится. "Чья, - скажет, - это коза меня забодала?" А Иван Нажмудиньн уж тут, задом вертит. "Это коза, - скажет, - Забежкина. У неге, скажет, кроме того, насупротив фамилии шесть галочек". - "А, Забежкина, - скажет товарищ комиссар, - ну, так уволен он по сокращению штатов". И баста.
- Да что ты все про козу-то врешь? - спросила Домна Павловна. - Откуда это твоя коза?
- Как откуда? - сказал Забежкин. - Когда, конечно, Домна Павловна, не моя, коза ваша, но ежели брак, хоть бы даже гражданский, и как муж, в некотором роде...
- Да ты про какую козу брендишь-то? - рассердилась Домна Павловна. - Ты что, у телеграфиста купил ее?
- Как у телеграфиста? - испугался Забежкин. - Ваша коза, Домна Павловна.
- Нету, не моя коза... Коза телеграфиста. Да ты, прохвост этакий, идол собачий, не на козу ли нацелился?
- Как же, - бормотал Забежкин, - ваша коза. Ейбогу, ваша коза. Домна Павловна.
- Да ты что, обалдел? Да ты на козу рассчитывал? Я сию минуту тебя насквозь вижу. Все твои кишки вижу...
В необыкновенном гневе встала с кровати Домна Павловна и, покрыв одеялом обильные свои плечи, вышла из комнаты. А Забежкин прилег на кровать, да так и пролежал до утра, не двигаясь.
8
Утром пришел к Забежкину телеграфист.
- Вот, - сказал телеграфист, не эдороваясь, - Домна Павловна приказала, чтобы в двадцать четыре часа, иначе - судам и следствием.
- А я, - закричала из кухни Домна Павловна, - а я, так и передай ему, Иван Кириллыч, скотине этому, я и видеть его не желаю.
- А Домна Павловна, - сказал телеграфист, - и видеть вас не желает.
Домна Павловна кричала из кухни:
- Да посмотри, Иван Кириллыч, не прожег ли он матрац, сукин сын. Курил давеча. Был у меня один такой субчик - прожег. И перевернул, подлец, - не замечу, думает. Я у них, у подлецов, все кишки насквозь вижу.
- Извиняюсь, - сказал телеграфист Забежкину, - пересядьте на стул.
Забежкин печально пересел с кровати на стул.
- Куда же я перееду? - сказал Забежкин. - Мне и поеехать-то некуда.
- Он, Домна Павловна, говорит, что ему и переедать некуда, - сказал телеграфист, осматривая матрац.
- А пущай, куда хочет, хоть кошке в гости! Я в его жизнь не касаюсь.
Телеграфист Иван Кириллыч осмотрел матрац, заглянул, без всякой на то нужды, под кровавь и, подмигнув Забежкину глазом, ушел.
Вечером Забежкин нагрузил тележку и выехал неизвестно куда.
А когда выезжал из ворот, то встретил агронома Пампушкина.
Агроном спросил:
- Куда? Куда это вы, молодой человек?
Забежкин тихо улыбнулся и сказал:
- Так, знаете ли... прогуляться...
Ученый агроном долго смотрел ему вслед. На тележке поверх добра на синей подушке стояла одна пара сапог.
9
Так погиб Забежкин.
Когда против его фамилии значилось восемь галок, бухгалтер Иван Нажмудинович сказал:
- Шабаш Уволен ты, Забежкин, по сокращению штатов.
Забежкин записался на биржу безработных, но работы не искал. А как жил - неизвестно.
Однажды Домна Павловна встретила его на Дерябкинском рынке На толчке. Забежкин продавал пальто.
Был Забежкин в рваных сапогах и в бабьей кацавейке. Был он небрит, и бороденка у него росла почему-то рыжая. Узнать его было трудно!
Домна Павловна подошла к нему, потрогала пальто и спросила:
- Чего за пальто хочешь?
И вдруг узнала - это Забежкин.
Забежкин потупился и сказал:
- Возьмите так, Домна Павловна.
- Нет, - ответила Домна Павловна хмурясь, - мне не для себя нужно Мне Иван Кириллычу нужно. У Иван Кириллыча пальто зимнего нету... Так я не хочу, а вот что: денег я тебе, это верно, не дам, а вот приходи - будешь обедать по праздникам.
Пальто накинула на плечи и ушла.
В воскресенье Забежкин пришел. Обедать ему дали на кухне. Забежкин конфузился, подбирал грязные ноги под стул, качал головой и ел молча.
- Ну как, брат Забежкин, - спросил телеграфист.
- Ничего-с, Иван Кириллыч, терплю, - сказал Забежкин.
- Ну, терпи, терпи Человеку невозможно, чтобы но терпеть. Терпи, брат Забежкин.
Забежкин съел обед и хлеб спрятал в карман.
- А я-то думал, - сказал телеграфист, смеясь и подмигивая, - я-то, Домна Павловна, думал - чего это он, сукин сын, икру передо мной мечет? А он вот куда сей закинул - коза.
Когда Забежкин уходил, Домна Павловна спросила тихо:
- Ну, а сознайся, соврал ведь ты насчет глаз вообще?
- Соврал, Домна Павловна, соврал, - сказал Забежкин, вздыхая.
- Н-ну, иди, иди, - нахмурилась Домна Павловна, - не путайся тут!
Забежкин ушел.
И каждый праздник приходил Забежкин обедать. Телеграфист Иван Кириллович хохотал, подмигивал, хлопал Забежкина по животу и спрашивал:
- И как же это, брат Забежкин, ошибся ты?
- Ошибся, Иван Кириллыч.
Домна Павловна строго говорила:
- Оставь, Иван Кириллыч! Пущай есть. Пальто тоже денег стоит.
После обеда Забежкин шел к козе. Он давал ей корку и говорил:
- Нынче был суп с луком и турнепс на второе.
Коза тупо смотрела Забежкину в глаза и жевала хлеб. А после облизывала Забежкину руку.
Однажды, когда Забежкин съел обед и корку спрятал в карман, телеграфист сказал:
- Положь корку назад. Так! Пожрал, и до свиданья. К козе нечего шляться!
- Пущай, - сказала Домна Павловна.
- Нет, Домна Павловна, моя коза! - ответил телеграфист. - Не позволю. Может, он мне козу испортит по злобе. Чего это он там с ней колдует?
Больше Забежкин обедать не приходил.
ЭЗОП
Дикие козы и пастух
Пастух выгнал своих коз на пастбище. Увидав, что они пасутся там вместе с дикими, он вечером всех загнал в свою пещеру. На другой день разыгралась непогода, он не мог вывести их, как обычно, на луг, и ухаживал за ними в пещере; и при этом своим козам он давал корму самую малость, не умерли бы только с голоду, зато чужим наваливал целые кучи, чтобы и их к себе приручить. Но когда непогода улеглась и он опять погнал их на пастбище, дикие козы бросились в горы и убежали. Пастух начал их корить за неблагодарность: ухаживал-де он за ними как нельзя лучше, а они его покидают. Обернулись козы и сказали: "Потому-то мы тебя так и остерегаемся: мы только вчера к тебе пришли, а ты за нами ухаживал лучше, чем за старыми своими козами; стало быть, если к тебе придут еще другие, то новым ты отдашь предпочтенье перед нами".
Басня показывает, что не должно вступать в дружбу с теми, кто нас, новых друзей, предпочитает старым: когда мы сами станем старыми друзьями, он опять заведет новых и предпочтет их нам.
Лисица и козел
Лисица упала в колодец и сидела там поневоле, потому что не могла выбраться. Козел, которому захотелось пить, подошел к тому колодцу, заметил в нем лисицу и спросил ее, хороша ли вода. Лиса, обрадовавшись счастливому случаю, начала расхваливать воду - уж так-то она хороша! - и звать козла вниз. Спрыгнул козел, ничего не чуя, кроме жажды; напился воды и стал с лисицей раздумывать, как им выбраться. Тогда лисица и сказала, что есть у нее хорошая мысль, как спастись им обоим: "Ты обопрись передними ногами о стену да наклони рога, а я взбегу по твоей спине и тебя вытащу". И это ее предложение принял козел с готовностью; а лисица вскочила ему на крестец, взбежала по спине, оперлась о рога и так очутилась возле самого устья колодца: вылезла и пошла прочь. Стал козел ее бранить за то, что нарушила их уговор; а лиса обернулась и молвила: "Эх ты! будь у тебя столько ума в голове, сколько волос в бороде, то ты, прежде чем войти, подумал бы, как выйти".
Так и умный человек не должен браться за дело, не подумав сперва, к чему оно приведет.
Пастух
У пастуха, который пас стадо волов, пропал теленок. Он искал его повсюду, не нашел и тогда дал обет Зевсу принести в жертву козленка, если вор отыщется. Но вот зашел он в одну рощу и увидел, что его теленка пожирает лев. В ужасе возвел он руки к небу и воскликнул: "Владыка Зевс! обещал я тебе в жертву козленка, если смогу отыскать вора; а теперь обещаю вола, если смогу от вора спастись".
Эту басню можно применить к неудачникам, которые ищут то, чего у них нет, а потом не знают, как избавиться от того, что нашли.
Волк и козленок
Козленок отстал от стада, и за ним погнался волк. Обернулся козленок и сказал волку: "Волк, я знаю, что я - твоя добыча. Но чтобы не погибнуть мне бесславно, сыграй-ка на дудке, а я спляшу!" Начал волк играть, а козленок - плясать; услышали это собаки и бросились за волком. Обернулся волк на бегу и сказал козленку: "Так мне и надо: нечего мне, мяснику, притворяться музыкантом".
Так люди, когда берутся за что-нибудь не вовремя, упускают и то, что у них уже в руках.
Волк и козленок
Волк проходил мимо дома, а козленок стоял на крыше и на него ругался. Ответил ему волк: "Не ты меня ругаешь, а твое место".
Басня показывает, что выгодные обстоятельства придают иным дерзости даже против сильнейших.
Лев и осел
Лев и осел порешили жить вместе и отправились на охоту. Пришли они к пещере, где были дикие козы, и лев остался у входа, чтобы подстеречь выбегающих коз, а осел забрался внутрь и начал голосить, чтобы напугать их и выгнать. Когда лев переловил уже немало коз, вышел к нему осел и спросил, славно ли он бился и хорошо ли гнал коз. Ответил лев: "Еще бы! я и сам испугался, кабы не знал, что ты - осел".
Так многие выхваляются перед теми, кто их отлично знает, и по заслугам становятся посмешищем.
ЛЕВ ТОЛСТОЙ
КОРОВА И КОЗЕЛ
(Сказка)
У старухи были корова и козел. Корова и козел вместе ходили в стадо. Корова все ворочалась, когда ее доили. Старуха вынесла хлеба с солью, дала корове и приговаривала: «Да стой же, матушка; на, на; еще вынесу, только стой смирно».
На другой вечер козел вперед коровы вернулся с поля, расставил ноги и стал перед старухой. Старуха замахнулась на него полотенцем, но козел стоял, не шевелился. Он помнил, что старуха обещала хлеба корове, чтобы стояла смирно. Старуха видит, что козел не пронимается, взяла палку и прибила его.
Когда козел отошел, старуха опять стала кормить корову хлебом и уговаривать ее.
«Нет в людях правды! — подумал козел. — Я смирнее ее стоял, а меня прибили».
Он отошел к сторонке, разбежался, ударил в подойник, разлил молоко и зашиб старуху.
ЛИСИЦА И КОЗЕЛ
(Басня)
Захотелось козлу напиться: он слез под кручь к колодцу, напился и отяжелел. Стал он выбираться назад и не может. И стал он реветь. Лисица увидала и говорит:
«То-то, бестолковый! Коли бы у тебя сколько в бороде волос, столько бы в голове ума было, то прежде, чем слезать, подумал бы, как назад выбраться».
ВОЛК И КОЗА
(Басня)
Волк видит — коза пасется на каменной горе, и нельзя ему к ней подобраться; он ей и говорит: «Пошла бы ты вниз: тут и место поровнее, и трава тебе для корма много слаще».
А коза и говорит: «Не за тем ты, волк, меня вниз зовешь,— ты не об моем, а о своем корме хлопочешь».
Исаак Башевис ЗИНГЕР
КОЗОЧКА ЗЛАТА
На Хануку дорога от села до местечка обычно покрыта снегом, но в тот год зима выдалась мягкой. Ханука была уже на носу, а снег ещё не выпал, и солнце светило почти не прячась за тучами. Крестьяне жаловались, что из-за суши озимые уродятся плохо. Зазеленела молодая травка, и скотину опять стали выгонять на пастбище.
Для Рувима-скорняка тот год оказался неудачным, и после долгих колебаний он решил продать свою козу Злату: коза была уже старая и молока почти не давала, а Файвел, мясник из местечка, предложил за неё восемь злотых: этих денег хватило бы и на ханукальные свечи, и на картошку, и на масло для блинов, и на подарки, и на всё прочее, без чего праздник - не праздник. Вот и велел Рувим своему старшему мальчику Аарону отвести козу в город.
Аарон понимал, что это значило - отвести козу Файвелу, но должен был слушаться отца. Его мать, Лия, узнав об этом утирала слёзы, а младшие сестрёнки, Анна и Мириам, плакали навзрыд.
Аарон надел тёплую куртку, шапку-ушанку, обвязал верёвку вокруг шеи Златы и взял с собой два куска хлеба с сыром, чтобы перекусить по дороге. Он должен был прийти с козой в местечко к вечеру, переночевать у мясника и вернуться на следующий день с деньгами.
Пока семейство прощалось с козой и Аарон обвязывал вокруг её шеи верёвку, Злата стояла как всегда спокойная и добродушная, облизывая Рувиму руки и тряся белой бородкой. Злата доверяла людям: она знала, что люди всегда её кормили и не делали ей ничего дурного.
Но когда Аарон вывел её на дорогу, Злата чуть удивилась - ведь они никогда прежде не ходили в ту сторону - и вопросительно поглядела на мальчика, будто хотела спросить: "Куда ты меня ведёшь?" Но немого погодя, видно, решила, что козам не по чину задавать вопросы.
И всё же дорога была другой: они шли мимо незнакомых полей, пастбищ и изб с соломенными крышами. Порой с лаем за ними бросалась собака, и Аарон отгонял её палкой.
Когда они вышли из села, сияло солнце, но вдруг погода переменилась. На востоке показалась большая чёрная туча с синеватой сердцевиной и быстро заволокла всё небо. Туча принесла с собой холодный ветер. Низко летали каркающие вороны. Сперва казалось, что пойдёт дождь, но вместо дождя посыпался град, как летом. День только начинался, но стало темно, будто настали сумерки. Скоро град превратился в снег. В свои двенадцать лет Аарон успел повидать всякую погоду, но никогда прежде не видел такого снега: столь густого, что затмил дневной свет, а ветер стал холодным, как лёд.
Дорога в местечко была узкой и извилистой, и Аарон не мог понять, где они находится. Ничего нельзя было разглядеть сквозь снег, и холод быстро пробирался в тёплую куртку.
Сперва Злата, казалось, не обращала на перемену погоды внимания: ей тоже было двенадцать лет, и она знала, что такое зима, но когда её ноги стали увязать всё глубже в снегу, она стала оглядываться на мальчика с удивлением, и её мягкие глаза, казалось спрашивали: "Зачем мы вышли в такой буран?"
Аарон надеялся, что встретит на пути крестьянина с телегой, но никто не проезжал мимо. Снег становился всё глубже и падал на землю крупными кружащимися хлопьями. Аарон ощутил под сапогами мягкую вспаханную землю и понял, что сбился с дороги. Он уже не мог понять, где восток и где запад, в какой стороне село, а в какой - местечко.
Ветер завывал, посвистывал и закручивал снег вихрями. Казалось, что белые бесы пустились играть в салочки по полям. Над землёй поднялась белая пыль. Злата остановилась: она не могла идти дальше, упрямо упиралась раздвоенными копытцами в землю и блеяла, будто умоляя отвести её обратно домой. С её белой бороды свисали сосульки, а рога посеребрил мороз.
Аарон заставлял себя не думать об опасности, но всё равно понимал, что если они не найдут пристанища, то замёрзнут насмерть: ведь это была не обычная буря, а могучая метель. Он уже проваливался в снег до колен, руки онемели, он не чувствовал пальцев ног и задыхался. Нос стал деревянным, и мальчик растирал его снегом.
Блеянье Златы стало похожим на плач: люди, которым она так верила, заманили её в ловушку. Аарон стал молить Бога за себя и за невинное животное.
Вдруг он смутно разглядел впереди какой-то холм и не понял, что это могло бы быть? Кто сгрёб снег в такую огромную кучу? Он пошёл к ней, таща за собой Злату, а когда приблизился, увидел громадный стог сена, укрытый снегом, и в тот же миг понял, что они спасены.
Аарон был сельский мальчик и знал, что делать. С большим трудом он прорыл проход в снегу, а когда добрался до сена, выкопал в нём яму для себя и для козочки: ведь какой бы холод ни стоял снаружи, в сене всегда тепло. Кроме того, сено было едой для Златы: едва почуяв его, она обрадовалась и стала есть.
А снаружи продолжался снегопад. Он скоро завалил прорытый Аароном проход, но мальчику и козочке нужно было дышать, а воздуха в их берлоге почти не было. Тогда мальчик пробуравил окошко сквозь сено и снег и всё время прочищал его.
Злата, наевшись досыта, уселась на задние ноги, и доверие к людям, казалось, снова вернулось к ней. Аарон съел два ломтя хлеба с сыром, но после трудного пути остался голодным. Он посмотрел на Злату и заметил, что вымя её отяжелело. Он лёг рядом с козой так, чтобы струйки молока попадали ему в рот. Молоко было густым и сладким.
Злата к такому способу дойки не привыкла, но не возражала. Наоборот, казалось, она хотела вознаградить Аарона за то, что он нашёл для неё кров, где и стены, и пол, и потолок были сделаны из еды.
Сквозь окошко Аарон улавливал мгновенные картины царившего вокруг хаоса. Ветер носил целые сугробы снега. Стало совсем темно, и он не мог понять, наступила ли уже ночь, или это была тьма бури. Слава Богу, в сене не было холодно, а сухая трава и полевые цветы источали тепло летнего солнца.
Злата ела часто. Она обкусывала сено сверху, снизу, слева и справа. Тело её излучало живое тепло, и Аарон прижался к ней. Он всегда любил Злату, а сейчас она была ему как сестра. Он оказался один, без семьи, ему захотелось поговорить, и он стал разговаривать со Златой.
- Злата, что ты думаешь обо всём, что случилось с нами? - спросил он.
- Ме-е-е, - ответила Злата.
- Если бы мы не нашли этого стога сена, мы сейчас превратились бы в ледышки, - сказал Аарон.
- Ме-е-е,- сказала коза.
- Если снег так и будет идти, нам придётся пробыть здесь несколько дней, - объяснил Аарон.
- Ме-е-е, - проблеяла Злата.- Что значит твоё "Ме-е-е"? - спросил Аарон. - Объяснись понятнее.
- Ме-е-е, ме-е-е, - попробовала объясниться Злата.
- Ну, ладно, пусть будет "Ме-е-е", - сказал Аарон терпеливо. - Ты не умеешь разговаривать, но я знаю, что ты всё понимаешь. "Ты нужен мне, а я нужна тебе"- ты это хотела сказать?
- Ме-е-е...
Аарону захотелось спать. Он сделал подушку из сена, положил на неё голову и задремал. Злата тоже заснула, а когда Аарон открыл глаза, он не мог понять, настало ли уже утро, или всё ещё была ночь. Снег засыпал окошко, и он попытался расчистить его, но, пробуравив на всю длину руки, так и не смог пробиться наружу. К счастью, с собой у него была палка, и он сумел пробиться к воздуху. Снег всё ещё шёл, а ветер выл то на один, то на много голосов. Порой казалось, что это хохочет чёрт. Когда он ласково похлопывал её, она облизывала ему голову и лицо, говорила: "Ме-е-е", и он понимал, что это значило: "Я тоже люблю тебя!"
Злата тоже проснулась, а когда Аарон поздоровался с ней, ответила "Ме-е-е". Да, язык Златы состоял всего из одного слова, но сколько в нём было значений! Сейчас она говорила: "Мы должны принимать всё, что Господь посылает нам: жару и холод, голод и сытость, свет и тьму".
Аарон проснулся голодным. Он уже съел весь свой хлеб, но Злата была полна молока. Аарон и Злата прожили в снегу три дня. Мальчик всегда любил Злату, но в эти дни любовь его всё возрастала. Козочка кормила его молоком и помогала сберечь тепло. Она утешала его своим терпением, а он рассказывал ей много разных историй, и Злата слушала, навострив уши. Когда он ласково похлопывал её, она облизывала ему голову и лицо, говорила: "Ме-е-е", и он понимал, что это значило: "Я тоже люблю тебя!" Снег шёл три дня, хотя после первого дня уже не был таким густым, а ветер затих. Аарону казалось, что лета никогда не было, что снег шёл всегда, сколько хватало его памяти, а у него самого никогда не было ни отца, ни матери, ни сестёр, он был снежным мальчиком, рождённым снегом, и Злата тоже. В сене было так тихо, что в ушах звенело от тишины.
Аарон и Злата спали всю ночь и большую часть дня, и все сны Аарона были о тёплой погоде. Ему снились зелёные поля, деревья в цвету, чистые ручьи и поющие птицы. К третьей ночи снег прекратился, но Аарон боялся, что не найдёт дорогу домой в темноте. Небо стало ясным. Светила луна, набросив на снег серебристые сети. Аарон выкарабкался наружу и взглянул на мир. Мир был белым, тихим, исполненным снов о небесном величии, а звёзды большими и близкими, и плыли по небу, как по морю.
На утро четвёртого дня Аарон услышал санный колокольчик. Стог был недалеко от дороги, и крестьянин на санях показал ему путь, но не в город к Файвелу-мяснику, а домой, в село. Аарон решил еще в стогу, что никогда не расстанется со Златой.
И родные, и соседи Аарона ходили искать мальчика и козу в метель, но их и следа не было, и все боялись, что они пропали. Мать и сёстры плакали, а отец был молчалив и мрачен.
Вдруг прибежал сосед с известием, что Аарон и Злата идут по дороге. Аарон рассказал, как нашёл стог сена и как Злата кормила его молоком. Сестрёнки целовали и обнимали Злату, и принесли ей особое угощение из рубленной моркови и картофельных очистков, которые Злата стала жадно поедать.
Больше ни у кого и в мыслях не было продавать козочку, а когда, наконец, ударили морозы, жителям села опять понадобился Рувим-скорняк.
Наступила Ханука, и мама Аарона могла жарить блины каждый вечер. Злата тоже получала свою долю, и хотя у неё был свой загончик, она часто приходила на кухню и стучала в дверь рогами, сообщая, что пришла в гости, и её всегда пускали.
По вечерам Аарон, Мириам и Анна играли в дрейдл. Злата сидела у печки, смотрела на детей, мерцающие ханукальные свечи, и Аарон иногда спрашивал её:
- А ты помнишь те три дня, которые мы провели вместе в стогу?
Тогда Злата почёсывала шею рогом, трясла головой с белой бородкой и издавала тот единственный звук, которым выражала все свои мысли и всю свою любовь.
Evariste Carpentier (Belgien, 1845-1922) L'ami farouche (Fille de chèvre) (Дикий друг (Девушка и козел)). 1893-1895
ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР
КОЗЫ И ШЕКСПИР
Я еще помню те времена, когда в Чегеме куры не знали курятников и на ночь взлетали на деревья. Выбор дерева, по-видимому, определял главный петух, который стоял на взлетной полосе, пока все куры не взлетят. Разумеется, куры одного хозяйства всегда взлетали на одно дерево. Из чего никак не следует, что они неслись, сидя на ветках.
Я об этом говорю, потому что слухи о том, что чегемские куры несутся, сидя на ветках, а чегемские женщины терпеливо стоят под деревьями, растянув простыни, чтобы мягко поймать снесенные яйца, распространялись врагами Чегема, которых я устал называть.
Нет, куриные гнезда уже придумали, хотя куры чаще предпочитали нестись вблизи от дома в кустах, вероятно, заметив, что люди нередко используют яйца не по прямому назначению продолжения куриного рода, а для поддержания собственного рода. Кур это не вполне устраивало.
Так что хозяйка дома по вечерам разгребала окрестные кусты и собирала яйца в подол, как белые грибы. Хотя грибы у нас вообще не собирают. Да и зачем собирать грибы там, где можно собирать яйца. Любовь к грибам — следствие хронической бескормицы многих народов.
...В двенадцать лет я пас коз в Чегеме и читал Шекспира. Для начала это было неплохо. Я охватывал действительность с двух сторон.
К козам меня приставили не случайно. Мои родственники, с немалым преувеличением страшась, что я страдаю под бременем дармоедства, выдали на мое попечение коз.
Но случайно в доме моей двоюродной сестры, учившейся в городе, я нашел огромный том Шекспира. Целое лето я его читал и перечитывал. Лето тоже было огромным, как том Шекспира.
— Книга перевешивает его, — насмешливо говорили чегемцы, увидев меня с этим томом.
Из этого не следовало, что они вообще против книги, а следовало, что все-таки надо сообразовывать вес книги с собственным весом. Привыкнув иметь дело с кладью на вьючных животных, они чутко замечали всякое нарушение равновесия.
— Пока спускаешься к пастбищу, — остановив меня, доброжелательно поучали некоторые, — можно веревкой приторочить книгу к спине. Она будет оттягивать тебя назад. А то брякнешься носом на крутой тропе и скатишься вниз. С книгой-то ничего не будет, я за нее не боюсь. На ней вон какая шкура. А ты покалечишься и тем самым опозоришь нас. Скажут, недоглядели!
— Кто скажет? — по неопытности спрашивал я первое время, проявляя, с чегемской точки зрения, бестактность, которую нельзя свалить на ротозейство.
— Не притворяйся, что ты не знаешь врагов Чегема! Не такой уж ты маленький! — упрекали меня.
Изредка находились и неожиданные любители книг. Один из них, пощупав том Шекспира, предупредил:
— Видел, видел, как ты шастаешь по деревьям, оставив свою книгу без присмотра. Нехорошо. Козы-то ее не перегрызут, хотя обгадить могут. А буйволица, пожалуй, перегрызет.
Мои тогдашние худосочность и малорослость, видимо, способствовали тревоге чегемцев, что книга однажды окончательно перевесит меня и свалит с тропы. Но я на них нисколько не обижался. Хотя я в те времена и не мечтал о писательском будущем, но почему-то знал, что все они мне когда-нибудь пригодятся.
Впрочем, я уже тогда глубоко задумывался над происхождением слов. Именно тогда я открыл происхождение (ненавижу кавычки!) слова — айва.
...В древности русская женщина и кавказский мужчина гуляли в наших дремучих лесах. Вдруг они увидели незнакомое дерево, усеянное незнакомыми могучими плодами.
— Ай! — воскликнула русская женщина.
— Ва! — удивился восточный мужчина.
Так неведомый плод получил название — айва. Что занесло русскую женщину в наши дремучие леса, съели они тогда айву в библейском смысле или нет, меня в те времена не интересовало.
Я читал Шекспира. Сэр Джон Фальстаф баронет и королевские шуты надолго и даже навсегда стали моими любимыми героями. Один шут сказал придворному, наградившему его монетой:
— Сударь, не будет двоедушием, если вы удвоите свое великодушие!
Мне эта фраза казалась пределом остроумия, доступного человеку. Я беспокоился только об одном: дойдет ли до моих школьных товарищей в городе эта шутка без всяких пояснений. Я уже знал, что пояснения снижают уровень юмора.
Я хохотал над шутками шутов и, подняв голову, смеялся над хитростями коз. Когда я с томом Шекспира в руках гнал их на пастбище и устраивался где-нибудь под кустом, они время от времени поглядывали на меня, чтобы угадать, достаточно ли я зачитался, чтобы двинуться на недалекое кукурузное поле. Никакая изгородь их не удерживала.
Иногда я им очень громко, возможно, пытаясь преодолеть их неопытность в общении с Шекспиром, зачитывал наиболее смешные монологи Фальстафа. Силой голоса я пытался заразить их своим восторгом.
Пастбище было под холмом, на вершине которого находился табачный сарай, где женщины низали табак. Мой голос доходил до них.
— Ша, — вскидывалась какая-нибудь из них, — это, кажется, кричит Тот, Кого Перевешивает Книга!
Иногда самая любопытная не выдерживала и, не поленившись выйти из сарая, кричала мне вниз:
— Эй, с кем это ты там перекрикиваешься и хохочешь?!
— С козами! — кричал я в ответ, чтобы обрадовать их, ибо ничто так не воодушевляет людей, как если мы проявляем признаки неопасного слабоумия. Как мне потом передавали, мой ответ неизменно приводил женщин к долгим, аппетитным разговорам о странностях моего сумасшедшего дядюшки.
Тончайшая деликатность чегемок заключалась в том, что, аккуратно перебирая странности моего сумасшедшего дядюшки, они никогда не переходили на меня. Правда, говорили, что в этих описаниях иногда прорывалась неуместная, неактуальная горячность, ибо странности моего дядюшки были присущи ему от рождения до пожилого возраста, в котором он тогда пребывал.
Из сказанного никак не следует, что позже в жизни моего дядюшки наступила тихая, просветленная старость. Увы, это не так. Однако стремление к точности слишком преследует меня, словно я, пытаясь бежать от своего дядюшки, приближаюсь к нему с другой стороны земного шара.
Итак, я читал моим козам монологи Фальстафа. Многие козы подымали головы и слушали. Иногда даже фыркали, как мне казалось, в самых смешных местах, хотя не полностью исключается, что они фыркали по собственным козьим надобностям. Как видите, продолжаю следить за точностью происходящего.
Но, конечно, гораздо чаще, забывая все на свете, я зачитывался сам, а козы в это время перемахивали через изгородь и поедали кукурузные стебли вместе с листьями и зелеными стручками фасоли. В Чегеме фасоль часто сажают возле кукурузы, и она оплетает ее стебель. В Чегеме сажали столько фасоли, что подпорок не напасешься.
Очнувшись, я, бывало, бегу к стаду, грозно крича магическое слово, чтобы остановить потраву.
— Ийо! Ийо! — кричу я, что на козьем языке означает: прочь! Назад!
Каждый раз, услышав мой голос, козы не только не приостанавливали потраву, но, пользуясь последними мгновениями, начинали гораздо быстрей, даже с оттенком раздражения, раздирать кукурузные стебли и принимались гораздо поспешней жевать. Видимо, первейший проблеск сознания — когда отгоняют от жратвы, быстрее жри!
Мало того. Некоторые из них, держа в зубах недогрызанные кукурузные стебли, восшумев листьями, перебрасывались через изгородь на пастбище и уже спокойно доедали их там, словно все дело было в территории. Другие, опутанные плетями фасоли, перепрыгнув через изгородь, сами себя брезгливо объедали, якобы только для того, чтобы выпутаться из этих паразитических плетей.
Бригадир откуда-нибудь с далекого поля, услышав мой голос и поняв, в чем дело, посылал громкие проклятия, не теряя в крике извилистый сюжет проклятия, что больше всего меня поражало.
— Опять потрава?! — гремел он. — Чтобы ты наконец подломился под своей книгой! И чтобы я на костре из твоей книги поджарил самую жадную твою козу и, клянусь прахом отца, — огня хватит на эту козу! И чтобы я, съев козу, поджаренную на огне из твоей книги, успел прикурить от горящего пепла твоей книги! И успею, клянусь прахом отца, успею!
В самом деле успеет, с ужасом думал я и, отогнав коз, возвращался к тому Шекспира, не подозревающего, какая опасность над ним нависла.
Вместе с козами паслись три овечки. Они паслись, ни на секунду не подымая головы, словно поклявшись страшной клятвой: ни одной травинки в рот, прежде чем внюхаемся в нее! Так как они паслись, не подымая головы, они иногда наталкивались на коз, и козы их отгоняли ударом рогов. Впрочем, козы отгоняли их ударом рогов и тогда, когда овцы и не наталкивались на них.
Они вообще презирали овец. Никаких причин презирать овец у них не было, кроме одной: овцы не могли, да и не пытались одолеть изгородь кукурузного поля. Козы им этого не прощали.
Козы, в отличие от овец, паслись, часто подымая голову, чтобы оглядеть стадо или в глубокой полководческой задумчивости оценить окружающую местность. Для этого они не ленились взобраться на какую-нибудь близлежащую скалу и оттуда, пожевывая жвачку, озирались.
Видимо, им было свойственно стратегическое мышление. Впрочем, стратегическое мышление у них сочеталось с практическим. Увидев со своего возвышения козу, которая удачно подмяла куст лещины и поглощает сочные листья, они покидали свою скалу и быстрыми шагами, однако стараясь не терять лицо и не переходить на побежку, спешили к ней, чтобы вместе полакомиться. Зависть помогала им держаться вместе.
Зато если какая-нибудь коза, увлекшись кустом ежевики, застревала в овражке, из которого уже поднялось стадо, незаметно для нее пасущееся невдалеке, она начинала паниковать, металась в разные стороны, истерически взблеивала, давая знать, что она попала в гибельные условия. По-видимому, травоядные не обладают соответствующим нюхом, чтобы найти своих по следам.
Что интересно, козы ей обычно не отвечали. Видимо, они наказывали ее: будешь знать, как отбиваться от стада. И только намучив ее как следует, какая-нибудь небрежно отзывалась.
Забавно, что при этом мог достаточно отчетливо слышаться колоколец на шее какой-нибудь козы из стада. Но мечущаяся в овражке коза, без риска можно сказать, не обладая достаточным музыкальным слухом, не доверяла этому звуку, потому что колокольцы разных размеров болтались на шеях и других животных — коров, буйволов, ослов.
Без отзыва коза терялась, нервничала все сильней и сильней, возможно, считая, что стадо именно сейчас вышло на райские луга. Стадо не отвечало, но если в это время находилась какая-нибудь другая заблудшая коза, она мигом откликалась на ее блеянье.
Каждая из них считала, что ей отвечает представитель стада, и они, переблеиваясь, искали встречи и окончательно запутывали меня.
В таких случаях направить козу в сторону стада не хватало никаких сил. Через любые колючки, любые чащобы она рвалась на голос другой козы. Все неистовей, уже с хрипотцой переблеиваясь, они стремились друг к другу.
В голосах коз было столько вселенского сиротства, что казалось, встретившись, они не смогут оторваться друг от друга. И вдруг — встреча после неслыханных блужданий! Мгновенное успокоение, и обе даже не смотрят друг на друга.
Та, которую я изо всех сил пытался повернуть к стаду, а она, вся в репьях и колючках, рвалась на голос козы, начинает деловито обгладывать куст сассапариля, словно именно его она искала все это время.
Они паслись, не обращая внимания друг на друга. Каждая из них считала, что за спиной другой козы все стадо. Тут-то наконец их обеих вместе можно было перегнать куда надо. Козы не выносят одиночества, но предпочитают стадо, создающее полноту равнодушия.
...Целыми днями я валялся на зеленой цветущей траве. Сверху невидимые жаворонки беспрерывно доказывали, что небо — первичный источник музыки.
Курчавые овцы паслись над курчавым клевером, отчего, вероятно, делались еще курчавей по законам Дарвина.
Пчелы погружались в цветки с неуклюжим упорством водолазов.
Прыгающие пружины кузнечиков.
Застенчивые зигзаги бабочек над цветками.
Какое-то крупное, неведомое мне насекомое с жужжанием подлетало к цветку, но никогда на него не садилось. Каждый раз, когда оно, жужжа, стояло в воздухе над цветком, я терпеливо ждал, когда оно сядет на цветок, чтобы я его мог рассмотреть. Но оно, жалобно жужжа и с минуту стоя над цветком в воздухе, видимо, убеждалось, что этот цветок не содержит нужного нектара, и перелетало к другому цветку. И опять, жалобно жужжа, стояло над ним, но, словно убедившись, что и он неполноценен, перелетало к третьему.
Но я так и не увидел ни разу, чтобы оно село на какой-нибудь цветок. Привередливость его удивляла меня и вызывала сочувствие. Да еще это беспрерывное жалобное жужжание. Чем же оно кормится при такой капризности? Какой же цветок оно наконец выберет?
Однажды, ближе к вечеру, оно поблизости от меня опять с жалобным жужжанием повисло над очередным цветком. И вдруг в косых закатных лучах сверкнул, как длинная, тончайшая игла, хоботок, который оно всадило в сердце цветка, не садясь на него. Я вздрогнул от предчувствия далекого коварства, хотя, казалось, был достаточно подготовлен к нему некоторыми мрачными героями Шекспира.
...Вдоль пастбища высились вплоть до котловины Сабида дикие фруктовые деревья — алыча, слива, яблони, груши, инжир, грецкий орех.
По мере созревания, а чаще значительно опережая его, я поедал фрукты и, поедая, сделал ботаническое открытие, о котором почему-то забыл известить мир. Но лучше поздно, чем никогда.
Я заметил такую закономерность: чем менее вкусны и питательны фрукты, тем плодоноснее фруктовое дерево.
Самой плодоносной была алыча. На ней плодов было больше, чем листьев. Но плод не очень вкусный, так, водянистая кислятина.
Слива гораздо вкусней, но плодов на ней гораздо меньше.
Дикие груши и яблоки вкуснее сливы, но плодов на них меньше, чем у сливы, конечно, учитывая достаточно большой размер дерева.
Инжир гораздо вкусней яблок и груш, но и гораздо менее плодоносен.
И наконец, самые вкусные и питательные — грецкие орехи, но, учитывая громадность дерева и количество плодов на единицу площади, плодов еще меньше.
Поглощая фрукты, я вывел великую закономерность природы, подсказанную аппетитом. Чем вкуснее плод, тем полезней вещество, из которого он состоит, но тем трудней корням добывать в земле редкие соки, питающие плоды. Поэтому чем вкуснее плоды, тем ниже плодоносность дерева.
Чем обильней плодоносит дерево, тем охотнее оно стряхивает с себя плоды. Поэтому под алычой всегда толпились свиньи, чавкая и громко дробя своими гяурскими зубами косточки алычи.
Свиньи, жуя алычу, приподнимали головы, с удовольствием прислушиваясь к собственному чавканью. Чувствовалось, что, чавкая, они получают от еды дополнительное удовольствие через звук. Когда многие свиньи перечавкивались, получалась симфония жратвы. Когда кончалась алыча, они переходили на другие, более вкусные фрукты, но чавканье не усиливалось, из чего можно сделать вывод, что они не улавливали разницы вкуса. Тут уже напрашиваются совсем не ботанические законы.
Вероятно, были еще какие-то другие открытия, но я о них сейчас не помню. Если потом вспомню — расскажу.
...Вечером, когда тетушка доила коз, нередко происходили недоразумения. В Чегеме (последний оплот гуманизма), когда доят коз или коров, всегда сначала подпускают детенышей к своим родительницам, чтобы они немного попили молока. И после доения оставляют молоко детенышам.
Козлят выпускают по одному. Радостно блея, козленок бежит к блеющему стаду, но часто не узнает свою мать и начинает сосать молоко совершенно посторонней козы. Самое удивительное, что опытная, уж во всяком случае по сравнению с козленком, коза тоже не узнает его и с рассеянной щедростью подставляет ему свое вымя.
Но тут спохватывается тетушка и за шиворот ведет козленка к вымени его собственной матери, чтобы дать козленку попить свое законное молоко, тем самым дать козе расслабиться и затем подоить ее.
К этому времени коза, у которой чужой козленок выпил часть молока, осознает свою ошибку, но почему-то затаивает обиду не на себя, а на тетушку, и уже когда выпускают ее козленка, довольно часто прячет молоко от тетушки, чтобы ее детенышу больше досталось.
Происходит сложнейшая психологическая борьба между хозяйкой и козой. Дав козленку немного отпить молока, хозяйка хворостиной отгоняет его и начинает доить. В это время коза, по ошибке подпустившая чужого козленка к своему вымени, с преувеличенной нежностью вылизывает своего детеныша, словно пытаясь зализать свою ошибку.
Однако, покаявшись всласть, она решительно прячет молоко, делая вид, что оно кончилось. Но хозяйка об этом знает. Все учтено: и то, что успел выпить чужой козленок, и то, что успел выпить свой.
Хозяйка снова подпускает козленка к законному вымени, и якобы кончившееся молоко снова исправно поступает, и козленок, причмокивая, дергает за сосцы. Через некоторое время тетушка мягко, очень мягко отодвигает козленка от вымени и начинает доить козу.
Проходит минут десять, и вдруг коза, туповато оглянувшись (интересно, о чем она думала все это время?), обнаруживает, что не козленок под выменем, а тетушка. Коза, спохватившись, снова прячет молоко. Тетушка снова подпускает козленка к вымени, молоко снова подается, и так несколько раз.
Ради справедливости надо заметить, что некоторые козы, очень редкие козы, когда под ними чужой козленок, вероятно, почувствовав чуждый прикус сосца чужим козленком, сразу отгоняют его. Но такая чуткость явление исключительное.
Насколько я заметил, сам козленок не придает особенностям родных сосцов никакого значения: молоко отсасывается, ну и ладно! Кстати, человеческий младенец в этом отношении, по-моему, ничем не отличается от козленка.
Не подумайте, что последнее соображение я извлек из личных воспоминаний. Как это ни странно — я не помню себя грудным младенцем. А ведь это длилось довольно долго.
Но вот наконец козы, загнанные в загон, угомонились. Ночь. Тишина. Взбрякнет колоколец сонной козы, и вновь тишина. Передохнем и мы.
Вот мои, кажется, самые ранние воспоминания. Года, вероятно, в четыре отец мне объяснил, что царя нет. Если были еще какие-нибудь подробности, я о них не помню.
Помню, что я поверил отцу, и мне стало невыносимо тоскливо. Я вышел на улицу и подумал: царя нет, значит, эта земля, по которой я хожу, никому не принадлежит, никто за нее не отвечает. Было жалко себя, но я отчетливо помню, что особенно было жалко землю без хозяина. Крестьянские гены матери, что ли, сработали?
Соседский мальчик подбежал ко мне, чтобы поиграть. Но какие тут могут быть игры!
— Царя нет, — сказал я ему, чтобы потрясти его распадом миропорядка. Но то, что я сказал, до него как-то не дошло.
— А где он? — спросил мальчик.
— Нет совсем, — сказал я, не оставляя ему никакой надежды. Но я опять почувствовал, что это его не тронуло.
Оскорбленный, я отошел от него, чтобы полноценно страдать одному. Видимо, это был кризис сказочного сознания. Разумеется, я уже что-то слышал о Советской власти, но я считал, что царь стоит надо всем этим.
...Однако не будем преувеличивать мою педантичную привязанность к Шекспиру. Иногда, бывало, я приходил пастушить без тома Шекспира. И я заметил, что козы при этом явно скучнели. В этих случаях они почти не пытались перелезть на кукурузное поле, потому что тут я всегда был начеку и вовремя отгонял их. За лето козы, привыкнув к моей бдительности вне чтения, начинали понимать, что кукурузные стебли им недоступны, если они не видят в моих руках тома Шекспира.
Когда же я утром с томом Шекспира в руках гнал коз из загона, они сразу веселели и приходили в игривое настроение. Игривость их доходила до того, что они насмешливо демонстрировали внесезонную случку. Козы пародировали однополую любовь, на ходу изящно громоздясь друг на друга, что отдаленно напоминало мне путаницу с переодеваниями у Шекспира, где мужчина рядился в женщину и наоборот.
Совершенно нелепо заподозрить тут склонность к извращениям, но вполне допустимо, что козы пытались встряхнуть, разгорячить степенно вышагивающих козлов. Можно предположить, что это была легкая форма забастовки соскучившегося от безработицы гарема. Но было похоже, что козлы угрюмо осуждают эти внесезонные любовные игры. Они молча отстаивали свое законное право на отдых.
Их можно было понять. Их было всего четыре, а коз около сорока. Козы при виде тома Шекспира явно взбадривались с далеко идущими целями. Было совершенно ясно, что козы хотят, чтобы я читал Шекспира. Дальнейшее они брали на себя. Козлы, конечно, тоже хотели, чтобы я читал Шекспира, но не такой дорогой ценой, на которую намекали козы. При этом должен заметить, что овцы были совершенно равнодушны к Шекспиру.
Между придворными интригами у Шекспира и хитростями коз я находил много общего, и это веселило меня и, как я сейчас думаю, подсознательно работало на оптимизацию моего мировоззрения.
Тогда же я понял: человек — это нечто среднее между козой и Шекспиром. Говорят, последние математические исследования на эту тему не только подтвердили, но даже усугубили мою догадку. Говорят, теперь установлено: Шекспир, деленный на козу, дает человека в чистом виде. Без остатка.
Для проверки этого положения даю беглый набросок моей московской жизни. Когда я приехал сюда учиться, я в первые же дни был потрясен двумя, можно сказать, противоположными событиями.
Как-то, будучи в центре города, я подошел к милиционеру и спросил, как пройти на такую-то улицу.
Милиционер вдруг отдал мне честь, подняв руку в перчатке потрясающей белизны, и гостеприимно показал дорогу к нужной улице. Мне, мальчишке, отдают честь, да еще в такой белоснежной перчатке!
Я был потрясен этой доброжелательностью. Может быть, перчатка была из шерсти чегемских коз, думал я ликуя, но как он узнал, что я чегемец?
А через несколько дней я стал свидетелем совершенно не понятного мне и даже испугавшего меня зрелища. Я увидел, как милиционеры грубо и без всяких перчаток на большой проезжей улице сгоняют все машины на обочину.
А через минуту я увидел правительственные автомобили, мчавшиеся с такой панической скоростью, словно за ними гнались пулеметчики, словно они чудом выскочили из-под обстрела. Но никакой погони за ними не было, в чем я убедился воочию.
За годы пребывания в Москве я не раз наблюдал подобное зрелище и убедился, что это нормальная мания преследования, видимо, присущая всем правителям. Впервые я это увидел в сталинские времена. Потом времена менялись, но мания преследования оставалась.
На цветущих подмосковных полях я иногда встречал одиноких коз, которых обычно пасли одинокие старушки. Одна коза на одну старушку. По чегемским обычаям старушки, пасущие коз, это все равно что старики, стирающие белье в корыте. Меня в первое время подмывало спросить у старушек: а куда делось стадо?
Но чегемская деликатность удерживала меня от этого чегемского вопроса.
Но что меня больше всего поражало. Одинокая коза спокойно паслась, не проявляя никакого волнения по поводу отсутствия стада. И это было для меня дико. Сотрясаясь от внутренних рыданий, я следил за козой и думал, до чего большевики довели коз, что они забыли о всяком родстве. Смирилась гордая коза, рыдай Россия!
За время долгой жизни в Москве я сделал немало открытий из писательской жизни. Из чего, конечно, не следует, что я теперь пас писателей. Скорее, меня самого пасли и наказывали как заблудшую козу, уже злонамеренно избегающую стада.
Я надеюсь, что любовь к Фальстафу не стала фальстартом в моей писательской судьбе.
Вдохновение — счастье для писателя. Но ничего так не изнашивает человека, как счастье. Природа щадит нас, редко удостаивая счастьем. Так что, люди, будьте счастливы тем, что счастье — редкий гость.
Читатель может спросить у меня: чем хороший писатель отличается от плохого?
Спешу ответить, даже если читатель меня об этом не спросит.
Вот как бездарный и талантливый писатели пишут об одном и том же.
Бездарный писатель пишет:
— Я зашел в ресторан и увидел своего приятеля (называет по имени), он, как всегда, сидел за столиком и, как всегда, пил водку.
Талантливый писатель пишет:
— Я зашел в ресторан и увидел своего приятеля (называет по имени), он, как всегда, сидел за столиком и, как всегда, пил водку, и я, как всегда, незамедлительно присоединился к нему.
Одна фраза все меняет. Самоирония делает картину более объемной и не оскорбительной для пьющего приятеля.
Вообще писатель, лишенный самоиронии, рано или поздно становится объектом иронии читателя, и именно в той степени, в какой он лишен самоиронии.
Итак, Шекспир, деленный на козу, дает человека. Я для смеха рассказал об этом одному милому ученому, мы с ним сдружились на любви к шекспировским шутам. Мы помогали друг другу жить тем, что жили, находя время для шуток. Однажды, будучи в мрачном настроении, я написал такие стихи.
Отяжелел, обрюзг, одряб,
Душа не шевелится.
И даже зрением ослаб,
Не различаю лица
Друзей, врагов, людей вообще,
И болью отдает в плече
Попытка жить и длиться.
...Так морем выброшенный краб
Стараньем перебитых лап
В стихию моря тщится...
Отяжелел, обрюзг, одряб,
Душа не шевелится.
Через несколько дней он пришел ко мне, и я дал ему почитать эти стихи. К этому времени настроение у меня выровнялось. Беспрерывно куря, он странно долго читал стихи, а потом поднял голову и сказал:
— Если бы эти стихи я прочел в другом городе, я примчался бы к тебе на помощь.
Я смутился и замял разговор. Тем более, я знал, с каким безукоризненным мужеством он вел себя в труднейшие для него годы борьбы с космополитизмом. Шутник!
Мы нередко с ним спорили и просто говорили на отвлеченные темы. Чаще всего наши мнения совпадали, хотя иногда и расходились, но это никогда не влияло на нашу дружбу.
Вот некоторые формулировки, на которых мы сошлись.
Жестокость — попытка глупости преодолеть глупость действием.
Коварство — удар труса в темноте.
Анализ убивает всякое наслаждение, но продлевает наслаждение анализом.
После долгих споров мы установили строгую научную линию эволюционного развития человека: живоглот, горлохват, горлоед, оглоед, шпагоглот, виноглот, куроглот, мудоглот, трухоглот, мухоглот (он же слухоглот), горлодер, горлопан, горлан и, наконец, полиглот.
Если здесь последует вздох облегчения, то, предупреждаю, он преждевремен, потому что развитие это циклично (чуть не сказал — цинично) и все повторяется в том же порядке. Эволюционная лестница рушится, не выдержав бедного полиглота, и все опять начинается с живоглота.
Но в вопросе — может ли человек, принимающий людей за коз, пользоваться козьим мясом, мы не сошлись. Я считал, что не может такой человек есть козье мясо. А он считал, что мой подход — выражение крайнего субъективного идеализма, или, грубо говоря, солипсизма.
Так вот, когда я ему со смехом (для перестраховки!) сказал, что современная наука установила, что Шекспир, деленный на козу, дает человека, он иронически приподнял брови и подхватил! Он умел подхватывать:
— Здравствуй! Этому открытию уже двадцать лет! Даже появилось доказательство от обратного — Шекспир, деленный на человека, дает козу.
— Почему же об этом не было слышно? — удивился я.
— Потому что это считалось государственной тайной, — отвечал он, — тайной национального мышления. Но когда американские разведчики выкрали у нас секрет нашего национального мышления, а наши разведчики выкрали у американцев секрет их национального мышления, обе тайны абсолютно совпали, и стало возможно их рассекретить. Угроза войны отпала, демократия у нас расцвела, как огород для коз, и каждая страна перешла на подножный корм. Правда, у каждой страны свой подножный корм, но это другая тема.
Кстати, мой ученый друг был оставлен на необитаемом острове для проведения научных опытов в условиях полного одиночества. Через три года, как и договаривались, за ним приплыли соотечественники.
— Какое у вас самое сильное впечатление от трехлетнего одиночества? — спросили они у него.
— Совесть отдохнула, — неожиданно ответил он, но, смягчившись, добавил, — к тому же тут полно диких коз.
— В смысле людей? — догадался кто-то, правильно проследив за направлением его смягчения.
— Да, в смысле людей, но и в смысле свежего мяса, — пояснил он, возможно, заочно продолжая спорить со мной.
Соотечественники все-таки обиделись на него за себя и за человечество.
— Так, может, вас еще на три года оставить здесь? — язвительно спросил один из них.
— А вы думаете, человечество за три года исправится? — не менее язвительно ответил мой друг, подымаясь по трапу. — По-моему, со времен Шекспира оно не изменилось, но качество шуток сильно снизилось.
...Нет, шепчу я про себя, прогресс все-таки есть. Чегемские куры больше не взлетают на деревья, но покорно удаляются на ночь в курятник. А может, все-таки лучше бы взлетали? Боже, боже, как все сложно! Точно установлено, что на деревья взлетало гораздо больше кур, чем тех, что теперь укрываются в курятниках.
...Но где я? Где Чегем? А все-таки с козами было лучше.
МИХАИЛ ВЕЛЛЕР
НЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КРИК КОЗЫ
Редактирование начиналось с фамилий. Ударник мог быть неграмотен – ерунда, направим в вечернюю школу, в крайнем случае пусть самородок излагает устно, литсекретарь запишет, – но книга начинается с фамилии на обложке, и эта фамилия должна быть соответствующей. Ибо фамилия Карнович-Валуа уместна только в списке расстрелянных участников белогвардейского заговора, а Капран-Чемоданов – на разрешении эмигрировать в Берлин.
В сборнике «Смерть под псевдонимом» (Воениздат, Москва, 1957) перечисляется ряд фамилий видных советских писателей: Горький, Бедный, Голодный, Железный (так именуют однотипные и сведенные в бригаду эсминцы «Бодрый», «Бравый», «Бешеный» и т. д. – и сразу сущность явления ясна), Топоров, Пнин, Горнов, Барабанов, Крупин, Колбасьев, Уксусов, Петров-Водкин и Красный-Ддмони (вы когда-нибудь слышали о Белом-Адмони или Голубом-Адмони?). Эти фамилии должны были задевать не одно, так другое чувство потенциального читателя-пролетария и настраивать его на заинтересованный лад. Выразительная фамилия – это уже литературное произведение и залог правильного отношения к последующему тексту.
Но это были цветочки райских садов, которые не грезились мрачноватому и психически неуравновешенному Достоевскому, попрекающему нелюбимых героев невинными фамилиями Фердыщенко или Свидригайлов.
Если мы раскроем «Справочник Союза писателей СССР» последнего издания (1986) – ну, хоть на букве «г», то прочтем: Гай, Гей, Ген, Гин, Гиль, Гой, Глен, Гоба, Гох, Гоппе, Горбук, Грайбус, Гужва, Гура и Грюк… Что это?! – в легком обалдении вопросит читатель, и с нездоровым любопытством к чужому увечью перелистает на соседнюю букву. А там его радостно встретят Даен, Далада, Дарда, Делба, Дрипе, Друщ, Дуда, Дузь, Дукса и Дюбайло. Разламываем посередине – и нам пишут инженеры человеческих душ Кава, Калган, Калда, Карапыш, Квин, Кезля, Кибец, Киле, Кладо, Клипель, Крещик, Крыга и замыкающий роты Куек. Да не бывает у людей таких фамилий! – брякнет читатель бестактно. Какая-то банда громил… список кличек окраинных хулиганов и обитателей тюремной камеры: Винт, Выхрущ, Брыль, Жур, Зись! В справочнике восемьсот четырнадцать страниц, открывает его Абар и закрывает Ярец.
Разумеется, таких фамилий в природе не бывает. В них слышится высвист разбойника, гиканье конокрада и металлический хряск фомки. В стране были миллионы беспризорников и вчерашних бандитов – людей, к книге совершенно не приученных и относившихся к литературе с недоверием и насмешкой как к чему-то фальшивому и не имеющему никакого отношения к их реальной жизни. Но книга, написанная Выхрущем или Дуксой – своим, очевидно, братком! – затрагивала любопытство и возбуждала желание ознакомиться: да он, надо полагать, как я… ну чо, тля, может там фраер по делу чо написал… девушка, сколько платить в кассу? И вчерашний уголовник приобщался к позитивным ценностям через доступную ему литературу. Стиль и содержание сочинений, написанных Гужвой или Крещиком, вы легко можете себе представить.
Книги для добродушных хохлов, смирившихся вчерашних махновцев, писал Нехай, а для отставленных от религии священнослужителей – Поп. Понятно, что книги, подписанные «Москаль» или «Безбожный», они бы в руки не взяли.
Трудность состояла еще и в том, что если пролетарский писатель часто не умел писать, то пролетарский читатель еще чаще не умел читать. И при отделениях Союза писателей были созданы бюро пропаганды литературы, которые организовывали встречи читателей с писателями – тем самым одни были избавлены от необходимости чтения, а другие должны были вслух и прилюдно читать то, что они сами же с редакторской помощью и написали: это было как минимум справедливо и создавало стимул к повышению литературного мастерства. И вот здесь уже от редактора зависело все! Вспомним: часто приходится – не живьем, так по телевизору – видеть писателя, известного как мудреца и стилиста, который в разговоре двух слов связать не может и мучительно мычит, как сын пьяного пастуха от недоеной коровы. Чем рождает недоумение в зале: как же он пишет-то? Поясним: как мычит – вот так и пишет, откуда же другому взяться. А то, что попадает вам в руки и на глаза в виде его книг – плод работы неизвестного вам редактора над этим маститым мычанием. Нет ничего опаснее и пагубнее для пролетарского писателя, созданного на самом деле редактором, чем пытаться разорвать животворную пуповину и выставиться перед публикой самостоятельно и без написанного текста. Пока читает – ну, плохо читает, но написано хорошо. Как скажет без бумажки – чисто пациент травматологической палаты с похмелья после вчерашнего визита крановщика, накануне уронившего ему на голову бетонную плиту.
Приведем лишь несколько наиболее известных и характерных примеров красного редактирования.
Известный роман «Рог опера» ударника-классика Ивана Уксусова до редактуры (по сохранившимся воспоминаниям редакционного коллектива журнала «Красная новь») назывался «На рогах» – и более всего напоминал антиутопию «Скотский хутор», как если бы написал его не Орвелл, причем находясь в указанном состоянии, а так и не превзошедший грамоты герой текста трудяга-Конь. Чего стоит одна фраза «Коза кричала человеческим голосом» – и это не в сказке, а романе о коррупции в животноводческом хозяйстве. После бережного и умелого редактирования фраза обрела необходимую выразительность и реалистичность: «Коза кричала нечеловеческим голосом». В таком виде она вошла в анналы как образец стиля ударников и уровня редактуры.
А роман Фурманова (до редактуры – Фурмана) «Чапаев» в первоначальном авторском варианте назывался «Чингиз-хан Айтматов» и был словно отколочен копытом того же коня, по продразверстке мобилизованного в красную кавалерию. Первая фраза звучала: «Я сел на коня и поехал в штаб». На второй странице значилось: «Цок!», на третьей: «Цок!», на четвертой: «Цок!», на пятой: «Цок!» – и так до четырехсот сороковой: «Я приехал в штаб и слез с коня». Но искусство редактирования в том и заключается, что куда конь с копытом, туда и рак с клешней. Редактор издательства «Красный пахарь», сохранив экспрессию и объем романа, наполнил его лексико-семантическим содержанием, в результате чего советская литература пополнилась замечательной книгой о борьбе красного командира с черным вороном, которому Деникин как-то раз послал кусочек сыра, любви девушки из народа к непростому механизму пулемета, – все это давно вошло в золотой фонд, стало любимой легендой миллионов. Вдохновленный успехом и награжденный орденом автор, обретя в процессе работы над первой книгой ценный литературный опыт, приступил к созданию второго тома, более сложного и многопланового, который начинался многообещающей фразой: «Увидев меня, начштаба сказал», а со второй страницы пространство повествования крылось уже чеканным полисемантическим сочетанием из трех слов, именно которые повторяет начштаба, явно простой человек из народа, в течение очевидно всего долгого совещания, происходящего в явно сложной боевой обстановке, – и только безвременная смерть автора оборвала этот несомненный шедевр на двести девятнадцатой странице. В отредактированном виде мы знаем его по первым пяти главам неоднократно экранизированного и переведенного на многие языки романа «Они сражались за Родину».
Не менее знаменита история о том, как лично Главный Редактор посоветовал даже такому мэтру, как Алексей Максимович Горький, учесть возросшую культуру пролетарских читателей и изменить просторечно-вульгарное название романа «Е… твою мать» в просто «Мат». Казус редактуры произошел оттого, что автор не понял особенностей дикции редактора и, полагая, что в точности следует указанию, вместо «Мат» переименовал свою книгу в «Мать», что, согласитесь, не вовсе одно и то же. Следствие такого отсутствия взаимопонимания между автором и редактором было губительным и типичным: Горький был лишен редакторской помощи, надломился психически, ничего больше не написал, в стыде бредил бегством за границу на изолированный остров типа Капри (что делать пролетарскому писателю на Капри? явный маниакальнодепрессивный психоз), стал пить, курить, вступил в связь со снохой и вскоре скончался от туберкулеза. И это при том, что посвященная им дорогому Главному Редактору поэма «Дедушка и смерть» официально была признана посильнее, чем «Фауст» Гете.
Но к издержкам прогресса при социализме следует отнести и то неоднозначное обстоятельство, что со временем отдельные писатели научились писать и, более того, отдельные читатели научились читать. И умение это превзошло лояльные чаянья редактуры.
Угрожаемая красным карандашом, литература опустилась в подтекст, как подводная лодка скрывает все тело под воду, выставив наверх лишь невинный глазок перископа: что там делается? у нас все в порядке… о Господи! срочное погружение!
Писатель научился говорить читателю все, не говоря ничего, а читатель научился читать то, чего писатель и вовсе не писал. Литература развитого социализма явила и поныне не изученный образец высочайшего эзотерического искусства.
Редакторская работа уподобилась нырянию за жемчугом, который может скрываться в придонных раковинах – а может его там и не быть, кто его знает. В тихом омуте завелись черти, строящие редакторам носы и рожки. Писатель клал на стол патриотическую рукопись, и в каждой букве крылось по кукишу.
Несчастный и трудолюбивый редактор оказался вынужден профилактически пропалывать весь текст. «Дорожки» заменялись на «тропинки» и наоборот. «Крамер» превратился в «Ремарк», а «Живи с молнией» – в «Жизнь во мгле». Борьба с подтекстом превращала текст в перепаханное поле танковой битвы, где в квадратно-гнездовом порядке сажались питательная картошка и политически выдержанная красная гвоздика. Процедура редактирования заставила бы де Сада и Захер-Мазоха обняться и зарыдать от зависти. Ломались пальцы, головы, хребты, характеры и судьбы. Под хруст пили водку и лечили инфаркты.
Если же коза кричала уж вовсе нечеловеческим голосом, государство затыкало ей рот. Затычку называли «Государственной премией». Размер затычки был такой, чтобы нельзя было вытолкнуть ее языком.
АНДРЕЙ БИТОВ
МОЯ КОЗА
А когда Генрих попал в извержение, у меня на буровой в утреннем тумане в зумпф с глинистым раствором упала и утонула коза… Сбегали мои работяги за мной. И вот стою и смотрю, как неловко они эту козу извлекают и дотронуться до нее боятся, и думаю, что мне теперь с этой козой делать, как быть с ее хозяйкой? Денег уже вторую неделю нет, нечем мне с ней расплачиваться… Или просто зарыть эту козу, будто ее и не было? Тоже нехорошо… И чем мне теперь работяг кормить, раз артельные и вообще все деньги вышли? Разве у куркуля Петра занять? У него должны быть, только он разве даст, сам с голоду подохнет, а не даст. И лучше бы, думаю, прибили мы эту козу в свое время, раз уж все равно ей суждено было, да ели бы теперь ее мясо.
И что общего у нас с Генрихом? Ничего. Он в команде мастеров играл, а я даже в детстве футболом не увлекался. Он два факультета кончил, самых сложных, а я в том же институте – один, самый легкий, и то с трудом, в три приема: между первым и вторым курсом поместив завод, а между вторым и третьим – армию… И ни разу не попадал я на передний край – все какие-то задворки: ни почета, ни перспектив, ни даже выполнения плана, ни в газетах не напишут, ни даже благодарности в приказе не дождешься. Только вот люди мне всегда исключительные попадались. Или очень хорошие…
Зачем я, собственно, лечу к Генриху? Я лечу в творческую командировку. Но это еще ничего не объясняет. То есть не объясняет зачем. И вообще, что это такое, творческая командировка? По совести, понятия не имею. Никогда в такие командировки не ездил. И всегда относился к ним пренебрежительно. Ехать, утверждал я, так ехать. Застревать. Надолго. Работать. Вариться. Никакой ты не писатель, а вот приехал жить и работать, по необходимости приехал, так уж жизнь сложилась. Пройдет время, жизнь твоя перегруппируется – вернешься домой, к маме, к жене и детям. Только так ты можешь что-то увидеть, если точка зрения у тебя естественна и ты на нее не взобрался, а в ней находишься, в этой точке. А то – что такое… говорил я, творческая командировка!.. Приехал, посмотрел и уехал. Ничего не увидел, ничего не понял. Ни в чем не властен. Что покажут – то и ладно. Не годится, говорил я, не годится уважающему себя автору допускать себя до таких вещей. Да потом, если все будут прежде, чем ты успеешь куда-нибудь войти, знать, что ты писатель, то все для тебя будет закрыто, все будут цепенеть и мертветь перед тобой, и люди, желая лучшего, станут натянутые и неживые, как на групповой фотографии, снятой провинциальным фотографом.
Но я лечу, если можно назвать полетом бесконечные сидения в каждом промежуточном аэропорту. И я не переменил точки зрения на подобные командировки. А вот соблазнился… Такая возможность: съездить к другу, в места, где давно мечтал побывать, а случая к тому все нет как нет; такая возможность – грех ее упускать. И вот если раньше я ездил все и ездил, оказывался то там то тут – работяга, солдат, геолог – и все что-то интересное увозил с собой в памяти, то теперь еду специально, чтобы обогатиться творческим материалом, быть ближе к жизни (куда уж ближе, если ты живой!), еду специально, чтобы увидеть нечто из ряда вон выходящее, а это ведь мой собственный приятель, друг детства… И поневоле возникает мысль: а как вдруг я возьму и ничего, ничегошеньки не увижу из-за этого своего «специального» намерения увидеть? А если все вдруг онемеет перед моим специальным взором, что же я напишу тогда? Стыдно ведь будет.
Бросил дома дела, жена опять ворчит, что уехал, кто теперь дрова колоть будет и печки топить? И художник, мой друг, что-то к нам домой зачастил, и дочка опять простужена. И еду я мешать занятым людям, и в деле-то я их ни черта не смыслю, буду спрашивать какие-то маловажные глупости с серьезным видом, и прочее, и прочее приходит на ум, когда летишь третьи сутки, и все без сна, и все ждешь.
АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ
КОЗЕЛ
В поле – тын, под тыном – собачья голова, в голове толстый жук сидит с одним рогом посреди лба.
Шел мимо козел, увидал тын, – разбежался да как хватит в тын головой, – тын закряхтел, рог у козла отлетел.
– То-то, – жук сказал, – с одним-то рогом сподручнее, иди ко мне жить.
Полез козел в собачью голову, только морду ободрал.
– Ты и лазить-то не умеешь, – сказал жук, крылья раскрыл и полетел.
Прыгнул козел за ним на тын, сорвался и повис на тыну.
Шли бабы мимо тына – белье полоскать, сняли козла и вальками отлупили.
Пошел козел домой без рога, с драной мордой, с помятыми боками.
Шел – молчал.
Смехота, да и только.
НЕТ КОЗЫ С ОРЕХАМИ
Пошел козел лыки (*) драть, а коза орехи рвать. Пришел козел с лыками – нет козы с орехами. Нет козы с орехами, нет козы с калеными! – Ну, добро же, коза! Пошлю на тебя волка. Волк нейдет козу гнать. Нет козы с орехами, нет козы с калеными! – Добро же, волк! Пошлю на тебя медведя.
Медведь нейдет волка драть, волк нейдет козу гнать. Нет козы с орехами, нет козы с калеными! – Добро же, медведь! Пошлю на тебя людей.
Люди нейдут медведя стрелять, медведь нейдет волка драть, волк нейдет козу гнать. Нет козы с орехами, нет козы с калеными! – Добро же, люди! Пошлю на вас дубье.
Дубье нейдет людей бить, люди нейдут медведя стрелять, медведь нейдет волка драть, волк нейдет козу гнать. Нет козы с орехами, нет козы с калеными! – Добро же, дубье! Пошлю на тебя топор.
Топор нейдет дубье рубить, дубье нейдет людей бить, люди нейдут медведя стрелять, медведь нейдет волка драть, волк нейдет козу гнать. Нет козы с орехами, нет козы с калеными! – Добро же, топор! Пошлю на тебя камень.
Камень нейдет топор тупить, топор нейдет дубье рубить, дубье нейдет людей бить, люди нейдут медведя стрелять, медведь нейдет волка драть, волк нейдет козу гнать. Нет козы с орехами, нет козы с калеными! – Добро же, камень! Пошлю на тебя огонь.
Огонь нейдет камень палить, камень нейдет топор тупить, топор нейдет дубье рубить, дубье нейдет людей бить, люди нейдут медведя стрелять, медведь нейдет волка драть, волк нейдет козу гнать. Нет козы с орехами, нет козы с калеными! – Добро же, огонь! Пошлю на тебя воду.
Вода нейдет огонь заливать, огонь нейдет камень палить, камень нейдет топор тупить, топор нейдет дубье рубить, дубье нейдет людей бить, люди нейдут медведя стрелять, медведь нейдет волка драть, волк нейдет козу гнать. Нет козы с орехами, нет козы с калеными! – Добро же, вода! Пошлю на тебя ветер.
Ветер послушался и пошел воду гнать, вода пошла огонь заливать, огонь пошел камень палить, камень пошел топор тупить, топор пошел дубье рубить, дубье пошло людей бить, люди пошли медведя стрелять, медведь пошел волка драть, волк пошел козу гнать. Пришла коза с орехами, пришла коза с калеными!
(*) Лыко – волокнистое подкорье, находящееся под липовой корой; из него плетут лапти.
ВОЛК И КОЗЛЯТА
Жила-была коза с козлятами. Уходила коза в лес есть траву шелковую, пить воду студеную. Как только уйдет – козлятки запрут избушку и сами никуда не выходят. Воротится коза, постучится в дверь и запоет: – Козлятушки, ребятушки! Отопритеся, отворитеся! Ваша мать пришла – молока принесла; Бежит молоко по вымечку, Из вымечка по копытечку, Из копытечка во сыру землю!
Козлятки отопрут дверь и впустят мать. Она их покормит, напоит и опять уйдет в лес, а козлята запрутся крепко-накрепко.
Волк подслушал, как поет коза. Вот раз коза ушла, волк побежал к избушке и закричал толстым голосом: – Вы, детушки! Вы, козлятушки! Отопритеся, Отворитеся, Ваша мать пришла, Молока принесла. Полны копытцы водицы! Козлята ему отвечают:
– Слышим, слышим – да не матушкин это голосок! Наша матушка поет тонюсеньким голосом и не так причитает.
Волку делать нечего. Пошел он в кузницу и велел себе горло перековать, чтоб петь тонюсеньким голосом. Кузнец ему горло перековал. Волк опять побежал к избушке и спрятался за куст. Вот приходит коза и стучится: – Козлятушки, ребятушки! Отопритеся, отворитеся! Ваша мать пришла – молока принесла; Бежит молоко по вымечку, Из вымечка по копытечку, Из копытечка во сыру землю!
Козлята впустили мать и давай рассказывать, как приходил волк, хотел их съесть. Коза накормила, напоила козлят и строго-настрого наказала:
– Кто придет к избушечке, станет проситься толстым голосом да не переберет всего, что я вам причитываю, – дверь не отворяйте, никого не впускайте.
Только ушла коза, волк опять шасть к избушке, постучался и начал причитывать тонюсеньким голосом: – Козлятушки, ребятушки! Отопритеся, отворитеся! Ваша мать пришла – молока принесла; Бежит молоко по вымечку, Из вымечка по копытечку, Из копытечка во сыру землю!
Козлята отворили дверь, волк кинулся в избу и всех козлят съел. Только один козленочек схоронился в печке.
Приходит коза; сколько ни звала, ни причитывала – никто ей не отвечает. Видит – дверь отворена, вбежала в избушку – там нет никого. Заглянула в печь и нашла одного козленочка.
Как узнала коза о своей беде, как села она на лавку – начала горевать, горько плакать: – Ох вы, детушки мои, козлятушки! На что отпиралися-отворялися, Злому волку доставалися? Услыхал это волк, входит в избушку и говорит козе:
– Что ты на меня грешишь, кума? Не я твоих козлят съел. Полно горевать, пойдем лучше в лес, погуляем.
Пошли они в лес, а в лесу была яма, а в яме костер горел. Коза и говорит волку: – Давай, волк, попробуем, кто перепрыгнет через яму?
Стали они прыгать. Коза перепрыгнула, а волк прыгнул, да и ввалился в горячую яму. Брюхо у него от огня лопнуло, козлята оттуда выскочили, все живые, да – прыг к матери! И стали они жить-поживать по-прежнему.
КОЗА-ДЕРЕЗА
Жили-были старик со старухой да их дочка.
Вот дочка пошла пасти коз. Пасла по горам, по долам, по зеленым лугам, вечером пригнала их домой. Старик вышел на крыльцо и спрашивает:
— Вы, козочки, вы, матушки,
Вы сыты ли, вы пьяны ли?
Отвечают ему козы:
— Мы и сыты, мы и пьяны,
Мы по горочкам ходили,
Травушку пощипали,
Осинушки поглодали,
Под березкой полежали!
А одна отвечает:
— Я не сыта, я не пьяна,
По горочкам не ходила,
Травушку не щипала,
Осинушки не глодала,
Под березкой не лежала,
А как бежала через мосточек,
Ухватила кленовый листочек.
Да как бежала через гребeльку,
Ухватила воды капeльку.
Рассердился старик на дочь и прогнал ее с глаз долой.
На другой день послал пасти старуху. Старуха пасла коз по горам, по долам, по зеленым лугам.
Поздно вечером пригнала их домой.
Вышел старик на крыльцо:
— Вы, козочки, вы, матушки,
Вы сыты ли, вы пьяны ли?
Козы ему отвечают:
— Мы и сыты, мы и пьяны,
Мы по горочкам ходили,
Травушку пощипали,
Осинушки поглодали,
Под березкой полежали!
А одна коза — все свое:
— Я не сыта, я не пьяна,
По горочкам не ходила,
Травушку не щипала,
Осинушки не глодала,
Под березкой не лежала,
А как бежала через мосточек,
Ухватила кленовый листочек.
Да как бежала через гребeльку,
Ухватила воды капeльку.
Пуще прежнего рассердился старик, прогнал старуху с глаз долой.
На третий день сам пошел пасти коз. Пас по горам, по долам, по зеленым лугам. Пригнал их вечером домой, сам забежал вперед и спрашивает:
— Вы, козочки, вы, матушки,
Вы сыты ли, вы пьяны ли?
Козы ему отвечают:
— Мы и сыты, мы и пьяны,
Мы по горочкам ходили,
Травушку пощипали,
Осинушки поглодали,
Под березкой полежали!
А одна коза — все свое:
— Я не сыта, я не пьяна,
По горочкам не ходила,
Травушку не щипала,
Осинушки не глодала,
Под березкой не лежала,
А как бежала через мосточек,
Ухватила кленовый листочек.
Да как бежала через гребeльку,
Ухватила воды капeльку.
Старик поймал эту козу, привязал ее и давай бить. Бил, бил, половину бока ободрал и пошел нож точить.
Коза видит — дело плохо, оторвалась и убежала. Бежала, бежала, прибежала в заячью избушку, завалилась на печку и лежит.
Приходит зайчик:
— Кто, кто в мою избушку залез?
А коза ему отвечает:
— Я, коза-дереза,
За три гроша куплена,
Полбока луплено,
Топy, топy ногами,
Заколю тебя рогами,
Ножками затопчу,
Хвостиком замету!
Зайчик испугался и убежал. Идет, горько плачет.
Попадается навстречу ему петух в красных сапожках, в золотых сережках, на плече косу несет:
— Здравствуй, заинька. Чего плачешь?
— Как мне не плакать? Забралась коза в мою избушку, меня выгнала.
— Пойдем, я твоему горю помогу.
Подошли они к избушке, петух постучался:
— Тук-тук, кто в избушке?
А коза ему с печи:
— Я, коза-дереза,
За три гроша куплена,
Полбока луплено,
Топy, топy ногами,
Заколю тебя рогами,
Ножками затопчу,
Хвостиком замету!
А петух как вскочит на порог да как закричит:
— Я иду в сапожках,
В золотых сережках,
Несу косу,
Твою голову снесу
По самые плечи,
Полезай с пeчи!
Коза испугалась да со страху упала с печи и убилась...
А заинька с петушком стали в избушке жить да быть да рыбку ловить.
КОТ - СЕРЫЙ ЛОБ, КОЗЕЛ ДА БАРАН
Жили-были на одном дворе козел да баран; жили промеж себя дружно: сена клок и тот пополам. А коли вилы в бок — так одному коту Ваське! Он такой вор и разбойник, каждый час на промысле, и где что плохо лежит, так у него брюхо болит.
Вот лежат себе козел да баран и разговаривают. Откуда ни возьмись — котишко-мурлышко, серый лбишко, идет да таково жалостно плачет.
Козел да баран спрашивают:
— Кот-коток, серенький лобок, о чем плачешь, та трех ногах скачешь?
— Как мне не плакать? Била меня хозяйка, уши выдирала, ноги приломала да еще и удавить обещала.
— А за какую вину такая тебе погибель?
— А за то мне погибель, что сметанку слизал!
И опять заплакал кот-мурлыка.
— Кот-коток, серый лобок, о чем же ты еще-то плачешь?
— Как мне не плакать? Баба меня била да приговаривала: «К нам-де придет зять, где будет сметаны взять? Поневоле придется колотить козла да барана!»
Заревели козел да баран:
— Ах ты, серый кот, бестолковый лоб! За что ты нас-то загубил? Вот мы тебя забодаем!
Тут кот-мурлыка вину свою приносил и прощенья просил. Козел да баран его простили и стали втроем думать: как быть и что делать?
— А ну, середний брат, — спросил кот барана, — крепок ли у тебя лоб? Попробуй-ка о ворота.
Поднялся баран, с разбегу стукнулся о ворота лбом — покачнулись ворота, да не отворились.
— А ну, старший брат, — спросил кот козла, — крепок ли у тебя лоб? Попробуй-ка о ворота.
Поднялся козел-козлище, разбежался, ударился — ворота отворились.
Пыль столбом поднимается, трава к земле приклоняется, бегут козел да баран, а за ними скачет на трех ногах кот — серый лоб.
Устал кот, взмолился назвaным братьям:
— Козел да баран, не оставьте меньшoго брата...
Взял козел кота, посадил его на себя, и поскакали они опять по горам, по долам, по сыпучим пескам.
Долго бежали, и день и ночь, пока в ногах силы хватило.
Вот пришло крутое крyтище, стaново станoвище. Под тем крyтищем — скошенное поле, на том поле стога, что города, стоят.
Остановились козел, баран и кот отдыхать.
А ночь была осенняя, холодная. Где огня добыть?
Думают козел да баран, а кот — серый лоб уже добыл бересты, обернул козлу рога и велел ему с бараном стукнуться лбами.
Стукнулись козел с бараном, да так крепко — искры из глаз посыпались, — береста и запылала.
Развели они огонь, сели и греются.
Не успели путем обогреться — глядь, жалует незваный гость — медведь:
— Пустите обогреться, отдохнуть, что-то мочи моей нет...
— Садись с нами, Михайло Иванович! Откуда идешь?
— Ходил на пасеку да подрался с мужиками.
Стали они вчетвером делить темную ночь: медведь под стогом, кот — серый лоб на стогу, а козел с бараном — у костра.
Вдруг идут семь серых волков, восьмой — белый, и — прямо к стогу.
Заблеяли козел да баран со страху, а кот — серый лоб такую речь повел:
— Ахти, белый волк, над волками князь! Не серди нашего старшoго брата: он сердит, как расходится — никому несдобровать. Али не видите у него бороды: в ней-то и сила, бородою он зверей побивает, а рогами только кожу снимает. Лучше с честью подойдите да попросите: хотим, дескать, поиграть, силу попытать с меньшим братишкой, вон с тем, что под стогом лежит.
Волки на том коту поклонились, обступили медведя и стали его задирать. Вот медведь крепился, крепился — да как хватит на каждую лапу по волку! Перепугались они, выдрались кое-как — да, поджав хвосты, давай наутек.
А козел да баран тем временем подхватили кота, побежали в лес и опять наткнулись на серых волков.
Кот живо вскарабкался на макушку ели, а козел с бараном схватились передними ногами за еловый сук и повисли.
Волки стоят под елью, зубами лязгают.
Видит кот — серый лоб, что дело плохо, стал кидать в волков еловые шишки да приговаривать:
— Раз волк! Два волк! Три волк! Всего-то по волку на брата. Я, кот, давеча двух волков съел с косточками, так еще сытёхонек, а ты, бoльшой брат, за медведями ходил, да не изловил, бери себе и мою долю!
Только сказал он эти речи, козел сорвался и упал прямо рогами на волка. А кот знай свое кричит:
— Держи их, лови их!
Тут на волков напал такой страх — пустились бежать без оглядки. Так и убежали.
А кот — серый лоб, козел да баран пошли своей дорогой.
МАРИНА МОСКВИНА
ЗЕЛЕНЫЕ ГОРЫ И БЕЛЫЕ ОБЛАКА
...Увы, я так и не ведаю до сих пор, в чем оно состояло - мое призвание. Писатель ли я? Или все-таки служитель по уходу за животными? Зимовщик на Земле Франца-Иосифа, мать троих детей, монах или клоун, открыватель неведомых миров, маляр, кашевар? Кто же я, Господи? Для чего ты меня предназначил?
Мне не хватило духа и воли, чтобы расслышать внятный всеведущий внутренний голос - он казался мне голосом моря. А теперь времени почти не осталось, не за горами Великое Превращение, успеть стать пустой флейтой, на которой играет ветер, и ладно.
И все же, Господи, все же - когда сознание угомонится, а мысли исчезнут, позволь мне в последний раз обернуться, будто на чей-то зов. Я сказала "будто", потому что вряд ли на краю ойкумены, продвигаясь в безмолвие небес, удастся мне распознать в многоголосии Земли чьи-то дорогие моему сердцу интонации.
Но когда, обернувшись, увижу родные фигуры с человеческими или звериными очертаниями в окаменевшем пространстве, дай почувствовать такую глубокую любовь, что все осколки, обрывки, клочки этой прожитой жизни вдруг сами собой соберутся, склеятся и воскресят удивительные мгновенья... как, например, мы с Леонтием снимали на телевидении козла.
К тому времени мы уж виделись довольно редко. Пути наши разошлись. Я училась на вечернем, работала на телевидении, но, сочиняя сценарии, всегда старалась задействовать Леонтия. Он купил "Москвич" сливового цвета: "каблук" с большим багажником. И в этом фургончике возил своих зверей - то надо в Большой театр на "Дон Кихота" забросить осла ("Своих-то там не хватает!" - шутил Леонтий). То в Детский театр на "Маугли" по-солидному подвезти питона...
Короче, в назначенный день с козлом в грузовом отсеке сквозь милицейский кордон Леонтий въехал на территорию Шаболовки.
Моего дорогого друга я встречала у входа в первый корпус, и мне уже были хорошо видны его пышные усы и пшеничные кудри, когда вдруг у машины заглох мотор. Леонтий вылез - смущенно улыбаясь, мол, айн момент, открыл капот, склонился над мотором, закурил... и уронил туда горящую зажигалку.
Мощное пламя вырвалось из мотора и мигом охватило машину. Леонтий с опаленными кудрями кинулся к багажнику, выволок на свет божий абсолютно черного козла с огромными рогами, потом выхватил из кабины документы, а напоследок спас яркий шелковый камзол - весь в блестках, на вешалке, видимо, заботливо отутюженный Кларой Цезаревной.
"Москвич" сгорел в семь минут.
- Как живое существо, - горевал Леонтий. - Бибикнул мне, помигал фарами...
Подошли милиционеры: хлопали его по плечу, сочувствовали, смеялись.
Телевизионщики спешили на работу, не обращали внимания, думали, идет съемка.
А у нас, у комедиантов и плясунов, настроение, конечно, понизилось. Хотя Леонтий (артист!) надел камзол с огромными карманами, набитыми печеньем и вафлями, шелковые чулки, рубашку с кружевным воротником, золотую бабочку сверкал, искрился, как жар-птица...
Козел, невзирая на канонически сатанинский вид (ему только в Иудейской пустыне бродить в качестве козла отпущения), блистательно исполнил весь набор фортелей и трюков. И зверь, и дрессировщик на славу отработали съемочный день.
Одним словом, вечер. Надо увозить козла, а машины нет. И мы тоже - не сообразили после пожара заказать "уазик", такое все испытали громадное потрясение.
Выходим на улицу: я, Леонтий в каком-то сером тюремном ватнике - с сияющим камзолом, небрежно перекинутым через плечо, и на цепи этот человек ведет козла. Дождь хлещет - проливной, а ведь была, черт возьми, середина декабря.
Стали на дороге в темноте втроем ловить такси. Вымокли, замерзли, покрылись ледяной корочкой - никто не остановился.
Тогда мы решились на отчаянный шаг - проникнуть в метро.
Сиротской походкой я двинулась к суровой женщине с красной фуражкой на голове, замурованной в стеклянной будке.
- Это цирковые артисты, - говорю я жалобным голосом. - Фургон у них сгорел. А до дома буквально две остановки...
- Животных нельзя, - ответила она твердо. - Тем более без намордника.
- Он же козел! - говорю я. - Они не носят намордники.
- Нет, и все!
Леонтий - понизив голос:
- Я вам заплачу. Сделайте для нас исключение. Это очень смирный, психически уравновешенный козел. Он два раза ездил на съемки на Черное море, имел отдельный номер в пансионате работников Госплана и зарекомедовал себя с самой лучшей стороны.
Козел стоит - с ноги на ногу переминается, желваками играет, угрюмый, мускулистый, на железной цепи, глаза у него один желтый, другой зеленый, зрачки горят, как угли в печи, а рога такие, сразу ясно - что этот черт косматый по каждому поводу имеет свое собственное мнение. Причем готов его отстаивать с пеной у рта.
В конце концов Леонтий выложил последний козырь дьявольской силы.
- А на рога, - сказал он, - я ему надену целлофановый пакет, как на лыжные палки.
Тут нас - под свист и улюлюканье - с позором, со скандалом выдворили из метро.
Мы опять вышли на дорогу, но теперь разделились на две группы.
Я - стою, голосую, а Леонтий с козлом прячутся в кустах.
Неожиданно из дождливой декабрьской мглы на мой зов откликнулся какой-то тарантас.
Я распахиваю переднюю дверь, потом заднюю и - тоном, не терпящим возражений, - говорю:
- Нам нужно с вами подвезти одного козла.
Он:
- А?.. Что?..
В это время Леонтий с козлом с разбегу запрыгивают в машину.
- Но вы ведь сказали... одного! - обиженно проговорил шофер...
 | Книга "В. М. Шукшин. Рассказы. Повести" В. М. Шукшин - купить книгу ISBN 978-5-538-13128-6 с доставкой по почте в интернет-магазине Ozon.ru |
 | Книга "Марина Цветаева. Стихотворения. Поэмы. Проза" Марина Цветаева - купить книгу ISBN 978-5-699-71065-2 с доставкой по почте в интернет-магазине Ozon.ru |
 | Книга "Михаил Зощенко. Сентиментальные повести" Михаил Зощенко - купить книгу ISBN 978-5-17-071792-7 с доставкой по почте в интернет-магазине Ozon.ru |
 | Книга "Басни Эзопа" Эзоп - купить книгу ISBN 978-5-17-083252-1 с доставкой по почте в интернет-магазине Ozon.ru |
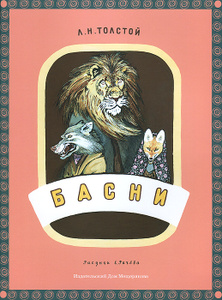 | Книга "Л. Н. Толстой. Басни" Л. Н. Толстой - купить книгу ISBN 978-5-91045-653-6 с доставкой по почте в интернет-магазине Ozon.ru |
 | Басни и рассказы для детей (аудиокнига MP3) - купить Басни и рассказы для детей (аудиокнига MP3) в формате mp3 на диске от автора Л. Н. Толстой в книжном интернет-магазине Ozon.ru | |
 | Книга "Исаак Башевис Зингер. Сказки" Исаак Башевис Зингер - купить книгу Stories for Children ISBN 5-7516-0429-6 с доставкой по почте в интернет-магазине Ozon.ru |
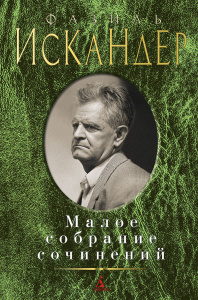 | Книга "Фазиль Искандер. Малое собрание сочинений" Фазиль Искандер - купить книгу ISBN 978-5-389-07953-3 с доставкой по почте в интернет-магазине Ozon.ru |
 | Книга "Легенды разных перекрестков" Михаил Веллер - купить книгу ISBN 978-5-17-035307-1 с доставкой по почте в интернет-магазине Ozon.ru |
 | Книга "Неизбежность ненаписанного" Андрей Битов - купить книгу ISBN 5-264-00053-0 с доставкой по почте в интернет-магазине Ozon.ru |

































Комментариев нет:
Отправить комментарий